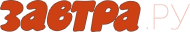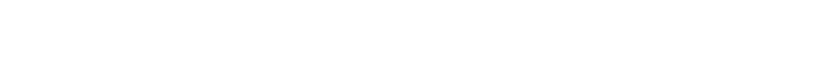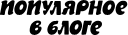ПАСТЫРЬ (На вопросы корреспондента газеты “Завтра” Андрея ФЕФЕЛОВА отвечает главный режиссер театра “На досках” Сергей КУРГИНЯН)
Author:
50(211)
Date: 16-12-97
Андрей ФЕФЕЛОВ. Сергей Ервандович, почему вы обратились к теме Сталина? Каково значение этой темы для современной России, ее политики и культуры?
Сергей КУРГИНЯН.Обратился я к этой теме случайно. Если бывает в человеческой жизни, и особенно в творческой деятельности, что-то случайное. Осенью 1991 года нас выгнали из того зала на Малой Грузинской, где наш театр “На досках” в течение десяти лет давал свои спектакли. Выгнали истерично, грубо, буквально выкинув вещи на улицу. Преувеличивать катастрофичность этого изгнания я не буду. К этому времени мой аналитический центр (в работе которого, кстати, уже тогда активно участвовали актеры театра “На досках”) сумел завоевать позиции, при которых особых финансовых проблем подобное изгнание не создавало. Конечно, было противно и неудобно. Надо где-то арендовать залы. Дорого... Но это не все. Эпидемия трусости парализовала тогда Москву. Многие боялись сдавать залы даже за приличные деньги. А доронинский МХАТ все же согласился (правда, уже в 1992 году, когда эпидемия страха стала гаснуть) предоставить нам малый зал. Мы играли в этом зале свой новый спектакль “Гамлет”. Спектакль имел успех. Наша публика искала возможности встретиться с нами.
Говоря о “нашей публике”, я должен объясниться. У театра “На досках” есть неширокий слой московских почитателей — примерно 50 тысяч человек. Это отнюдь не всегда люди идеологически созвучные. Часть влюблена в авангард, в интеллектуальный театр и видит в нас выразителей этого направления, отделяя нашу деятельность в культуре от на- ших идеологических пристрастий. Часть относится к театру как к “мистериальной площадке” и видит в нас нечто большее, чем просто деятелей культуры. Часть ищет и находит идеологический резонанс. Все это — любители “нетипичного” театра, в котором прорываются к сложным истинам, а не “оттягиваются”... И даже не наслаждаются в обычном культурном смысле. Это — зритель для театра непривычный и театр в обычном смысле слова не очень посещающий. Он легко узнаваем. Один известный критик сказал мне: “Такого зрителя я лет двадцать назад видел на лучших концертах Консерватории”.
Добавьте к этому сам феномен гонимости. Все знали, что мы почти под запретом, что нас вышвырнули на улицу. В этих условиях мы вдруг делаем небольшую серию показов нового спектакля. В удобном месте и с расклейкой афиш. В Малом зале МХАТа, где мест всего-то, кажется, около ста. Аншлаг был обеспечен. Он и был, супераншлаг с залом, заполненным особой публикой. И это посреди той Москвы 1992 года, где в театр фактически ходить перестали. Татьяну Доронину это очень впечатлило. Зритель в театре — ее больная тема. Недавно она говорила об этом на встрече главных режиссеров театров с мэром Москвы. И снова был крик души: “Те, кто к нам ходит, — не театральный зритель вообще! Мы теряем театр!”
Желая заполучить зрителя в свой МХАТ, Доронина начала тогда меня “обхаживать”. В обаянии ей не откажешь. Но предложенная ею для постановки пьеса про Аввакума совсем меня не грела. Я прочитал сценарий и вежливо отказался. Однако Доронина — подлинная дщерь Евы. И отказы ее только активизируют. Обаяние было удесятерено, настойчивость тоже. Как интеллектуальный соблазн для “упершегося Кургиняна” на свет Божий был извлечен “Батум” — казавшаяся безнадежной комплиментарная пьеса о молодом Сталине, которую сам Сталин играть запретил. Помните 1992 год? Удары дубинками по головам демонстрантов, дикая истерика антисталинизма и все остальное... Мне хотелось создать то, что авангардистская режиссура называет “акцией”, и приурочить к 7 ноября. Я об этом сказал Дорониной. Ей было надо добиться своей цели, и было все равно, ради чего и что именно я собираюсь делать. И она согласилась на акцию. С приглашением лидеров оппозиции и гимном “Союз нерушимый” в конце спектакля. С подлинным, старым, текстом.
Я очень не люблю ставить спектакли в чужих театрах. И не верю в культуру как таковую посреди существующих обрушений. Я верю в возможность мистериальным способом создать ядро новой преемственной культуры. Я не режиссер зрелищ — высоких или площадных. Я поисковик, проблематизатор, искатель новой литургии. В этом смысле театр “На досках” — это и не театр вовсе, а мистериальная площадка, площадка для левой, красной мистерии. За этим к нам и идут.
Поэтому “акции” мне было мало. И я, еще не дав окончательного согласия, стал вчитываться в “Батум”. Знаете, каково другое, настоящее название пьесы? То, которое “грело” Булгакова? Это название — “Пастырь”. Меня оно сразу привлекло. Потом с названием соединилась и проявившаяся в скучном тексте булгаковщина, которая с трудом отделялась от казенщины 30-х годов, но была, дышала своей метафизикой. Булгаков искал в Сталине “красного пастыря”. Искал с увлечением, но без любви. Искал, будучи связан условностями и запретами 30-х годов. Но мистериальный компонент в этом поиске был. Чужой красному человек, автор “Дней Турбиных”, разглядел красное лучше его апологетов. И понял глубже.
Поэтому я согласился потратить сентябрь и октябрь на сочетание мистериального поиска с подготовкой акции. При этом все началось с “хулиганства”. Придя во МХАТ, я на первой же репетиции из- бавился от корифея, которого мне рекомендовали на роль Сталина, и взял молодого парня. Дальше понадобилось недели три, чтобы включить чужих актеров хотя бы в поверхностный мистериальный поиск. А дальше... Как ни странно, удалось поставить совсем не худший спектакль. Доронина была в восторге. Это до сих пор, я думаю, зафиксировано в стенограммах первой приемки спектакля. А раз Доронина была в восторге, то начал восторгаться и весь худсовет, что было не очень приятно: восторги шли чересчур пышные и цветистые. Но я не стал придавать этому особого значения, вспомнив знаменитое высказывание Липочки из “Свои люди — сочтемся”: “В ихнем кругу все так делают”.
Потом... Потом началось странное. Видимо, на генеральной репетиции были не только актеры и режиссеры, но и искусствоведы в штатском. Буквально назавтра после восторженно встреченного прогона началась дикая истерика Дорониной. В узком кругу она признавалась, что кто-то очень важный (ну, совсем важный) позвонил ей, и с использованием ненормативной лексики предложил выбор: немедленно закрыть спектакль и получить крупную прибавку к дотации или крутить спектакль, но потерять и дотацию, и театр. На вопрос, что она выбирает, Дорони-на немедленно ответила: “Прибавку к дотации”.
Спектакль она отменить уже не могла, но сделала все, чтобы его сорвать. Он шел заменой какого-то ее спектакля, а не как премьера. Заготовленные для приглашенных деятелей оппозиции билеты главный администратор спрятал. И сожалел, что не успел, как приказали, сжечь. Илья Константинов — он был тогда одной из крупных фигур российской представительной (еще советской) власти — потом сказал мне: “Со студенческих лет я не сидел в четвертом ярусе”.
Вопреки всему, зал на тысячу мест был полон, и все, кто в этом зале были, помнят успех спектакля. Так что попытки списать закрытие на художественный результат — более чем сомнительны. Но на следующий день прошел новый худсовет, на котором вчерашние восхвалители превратились в таких хулителей, которых свет не видывал. И никто не скрывал, почему произошла такая метаморфоза. Доронина металась и неестественно пыталась сыграть что-то сразу на две темы: леди Макбет (сгинь, сгинь, красное пятно!) и Мерчуткина (я женщина слабая, беззащитная!) Спектакль был закрыт. Именно закрыт, и немедленно. Половина театральной Москвы это помнит. Сдирались афиши с тумб, уничтожались билеты. Недоумевающий зритель названивал и требовал, чтобы ему показали запретный плод.
Словом, спектакля жалко, но акция удалась. Я, кстати, думаю, что нормального кассового успеха спектакль не имел бы. Зритель “досок” немногочислен. Его хватает на то, чтобы делать долгие аншлаги в небольших залах. И к Дорониной на тысячу мест он не пойдет — ему мистерию подавай, камерность, метафизическое соучастие в действе. Зритель Дорониной никогда бы ничего подобного “Пастырю” не воспринял. Так что никаких особых переживаний по поводу закрытия я не испытывал. Жалко было молодых актеров, которых потом на худсовете заставляли каяться и признаваться, что они с самого начала “видели во мне враждебный элемент”. Кроме того, Доронина для мотивировки закрытия пустила через Вульфа версию, что спектакль не удался. Хотя Вульф сам признавался, что спектакля не видел.
Что касается мистериального опыта, то после “Пастыря” я начал кое-что понимать в Сталине как фигуре не до конца светской. У моей семьи большой счет к Сталину, и я вовсе не хотел романтизации этого политика и человека. Но понять многое удалось. Для этого и спектакль ставишь — понять то, что иначе понять нельзя. И рассказать другим. Тем, кто хочет и может понять. Не знаю, можно ли таких именовать “зритель”.
А.Ф. Пьеса Булгакова посвящена проблеме “молодого Сталина”. Что, по-вашему, является ключевым моментом в генезисе Сталина?
С.К. Вообще или для Булгакова? Вообще — об этом можно написать книгу. А у Булгакова для меня теперь, после постановки, все ясно. Для него ключевой момент в генезисе Сталина — это уход Сталина из духовной семинарии. Это уход сознательный, метафизический, что понятно и из простого прочтения. Неясно другое. Уходил ли Сталин из мертвых форм ради того, чтобы сохранить содержание, искал ли он другого содержания, или просто бунтовал, отрицая и опровергая содержание вообще и ставя на его место “содержание со знаком минус”. То есть Антихриста. Для революционеров, кстати, это привычный ход. Ответить на этот вопрос можно было, лишь получив духовный опыт в ходе самой постановки. Теперь я могу с уверенностью сказать, что созданный Булгаковым Сталин не укладывается в понятие “революционного минуса”. Он колеблется между поиском нового содержания и попыткой уйти из формы, чтобы содержание сохранить и развить. В нем все время борются красный пастырь и православный монах, даже теолог.
А.Ф. Следующий вопрос касается феноменологии личности в истории. Сергей Ервандович, как вы считаете, является ли Сталин случайным и “счастливым” интегралом сил, творящих Историю, или, быть может, он как личность является “той силой”, что творит Историю?
С.К. Феноменологию как отдельную науку выдумал Гуссерль, когда запутался в диалектике. Говоря “запутался”, я вовсе не хочу похлопывать по плечу великих философов. Просто Гуссерль понял всю глубину загадок и противоречий, связанных с пониманием Гегелем “духа истории”. И начал “отгребать” от Гегеля, заряженного этим, открывшимся ему, чудовищным пониманием: то в сторону религии, то в сторону рафинированной суперпсихологии. Отсюда феноменологические редукции. Мне этот редукционизм чужд изначально. А на спектакле я еще раз убедился, как неправильно противопоставлять две возможности понимания истории. Это противопоставление адресует к гегелевским раздумьям по поводу Субъекта и Субстанции. Кстати, Ленин, организуя “Общество любителей гегелевской философии” и заново конспектируя “Науку логики”, думал о том же. Ваш “случайный и счастливый” интеграл сил — это и есть субстанция, а личность как сила, творящая историю, — это субъект. Что в основе? Здесь не только философский, но и политический вопрос. Недаром его пытались решить все неогегельянцы: от Бауэра до Кожева.
Революционер — если он не туп, как бревно, а является духовной личностью — постоянно решает для себя этот вопрос. Движим он или его двигают? Речь идет о метафизике, о том, что иногда именуется “теологией революции”. Сталин Булгакова (в моей трактовке) занят этим же: он решает для себя “фундаментальную проблему революционной метафизики”. В чем “белое решение”? В том, что есть конец истории как Расплата, и есть Божий Бич революции как часть такого конца. В таком случае Сталин — это субъект, через который просвечивает “высшая воля”.
В чем “красное решение”? В том, что происходит сложное соединение субъекта и субстанции, термоядерная реакция их синтеза, рождающая иное время и иную реальность. С такой точки зрения история — это суперценность, “красное божество”. Конца истории, который одинаково грезился Гегелю и Блаженному Агустину, для красного не существует. Таинство истории для красного — выше иных таинств. В нем противоречие “субъект-субстанция” снимается. Сталин Булгакова, всматриваясь в свою жизнь, пытается понять ее как метафизический опыт, и колеблется между версиями Бича и Пастыря. Иногда я думаю, что Булгаков прав в своем прочтении... Правда, я так думаю лишь иногда... И не очень часто... Пока...
Да, кстати, единство Гегеля и Блаженного Августина — в их Великом Финализме. А не в понимании содержания Финала. Россия сегодня опровергает Гегеля, снимая антитезу между “духом истории” и “новым духом”. У России отняли историю. Она обязана ее вернуть, чтобы жить. Вернуть того же Сталина: не в виде наличествующего диктатора, а в виде отнятого Смысла. Я не свожу к Сталину весь смысл России. В том числе и смысл России эпохи Сталина.
Нелепо описывать сталинскую эпоху в духе демократического лубка, смаковать примитивы, идиотизмы и преступления. Но нелепо и пытаться поднять этот лубок на уровень нового идеала. Надо убрать лубковость вообще. Сталинская эпоха очень непроста, насыщена массой таинственных энергий и смыслов. Эти смыслы надо обрести, вернуть. Надо иначе понять человека эпохи Сталина. Кстати, ведь есть и еще один вид глупости — мол, все великое произошло вопреки Сталину. А он ошибался, мешал, уничтожал лучших людей. А вопреки ему... Эти хрущевские сказки пропитали целое поколение. Они — рафинированная разновидность все того же лубка. Не преодолев все лубки разом, мы никогда не сдвинемся с мертвой точки.
Что значит вернуть смыслы? Это не значит оправдать и бегать с портретами по улицам. Это не значит построить копию прошлого в совершенно иной реальности. Это значит — теперь понять прошлое эпохи, связанной с этим именем (и само имя, Имя в метафизическом понимании) на порядок глубже и тоньше, чем в тот момент, когда это было отнято. Это сложная процедура. Я именую ее “рефлексивной революцией” и считаю прологом к возможному возрождению страны. Россия должна вернуть себе историю и Имена. Она не может вернуть историю, не рефлексируя, не оперируя “новым духом”. Но оперируя им, она не “играет” историей в гегелевском смысле (имею в виду и Гегеля, и его учеников типа Кожева). Она, напротив, отрицает игру, ломает ее, ищет не постисторическое, а новоисторическое содержание, преодолевает то единственное противоречие, которое Гегель считал непреодолимым. Снимает это противоречие между “новым духом” и “духом истории”.
Если ей это удастся — Гегель не прав. Россия спорит с Гегелем, а с ним спорить — ох, как непросто. И спорит Россия, ставя на кон свою жизнь. Это свойство русского спора. Об этом я ставил “Пастыря”. Сами подумайте, разве об этом можно ставить спектакль, да еще в театре Дорониной? А вот мистерию на эту тему нужно ставить. И это будет мистерия нынешнего российского поиска и одновременно — я убежден — мистерия красного смысла. Я ставил “Пастыря”, полемизируя с “Покаянием” Абуладзе. Но не это главное. Главное — я полемизировал с “концом истории” Фукуямы. И не сам Фукуяма здесь важен, а его учитель Кожев и те, кто стоят за ним.
Иногда мне кажется, что кто-то успел почуять этот смысл и воспрепятствовать, как говорят в таких случаях, “его экспликации”. Что на это сказать? Рукописи не горят. Спектакли тоже. Особенно мистериальные. Эгрегориальный след остается. И это главное.
А.Ф. Осуществляя постановку булгаковской пьесы, которая полна таинственных иносказаний и реминисценций, как вы определили провиденциальную компоненту судьбы Сталина; расшифровали ли мистические предпосылки его власти?
С.К.Метафизика лежит по ту сторону шифров и дешифровок. Я не расшифровал, а понял. Понял — и передал это понимание тем, кто хочет понять.
1.0x