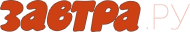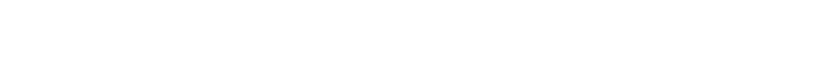Села в машину, сразу ощутив чуть кисловатый, квасной дух – два бородача расположились у Василия на заднем сиденье. «Священник и так, церковный деятель, интереснейший человек, бывший спецслужбист», – предупредил Василий меня заранее, так что я была, можно сказать, готова.
– Что же я вперед-то сажусь? Может быть, другой кто-нибудь?..
– А знаете, сейчас самое частое явление: женщина-охранник, первый удар на себя принимает. Так что сидите-сидите.
Так они мне ответили, в шутку, а может, почувствовав, что вопрос мой нельзя назвать вполне искренним: люблю ездить на переднем сиденье, а поездка обещает быть светлой – солнечной, майской, по привольному Подмосковью, в будний день. Когда отпросишься с работы, и пилишь куда-нибудь на просторы не просто так, а даже, можно сказать, почти по делу – невольно чувствуешь себя, как школьник, у которого с утра высокая температура и он, при всем своем честном желании, никак не может исполнить урока, все равно нудного.
– Алена, ты когда-либо исповедовалась, причащалась? – с места в карьер спросил один из них, и на правах бесконечно старшего сразу на «ты».
– Ну да, – неохотно ответила я.
Их разговор, прерванный только ради этого удостоверения, возобновился.
– Арабские девушки, вообразите, отче – гибкие, черноглазые, и при этом удивительно благочестиво одетые…
– Ну конечно, благочестиво, – засмеялся Василий, – завернутые в паранджу…
Я смотрела на дорогу, на цветные тени, которые плыли по асфальтовому полотну, автомобили, которых мы обгоняли и которые обгоняли нас, здания с открытыми окнами – на Москву нашла наконец жара, после долгой зимы, бесснежной в этом году, темной. Она так придавила нас своим холодом и беспросветной мрачностью, что в май даже не верилось.
– Есть такие – новые да шустрые, которые всех знают, и их все знают, – говорили отцы о молодом архимандрите.
– А мы как-то были там, знаете, и нашлась среди прихожан одна женщина, активистка, все говорила: «Не толпитесь, по одному, по одному… Товарищи!» – Да какие мы товарищи, мы братья и сестры!..
– А там мощнейшая благодать, я бы сказал, наимощнейшая…
Невольно вспомнился мне вчерашний язычник – с которым случайно и коротко переговорили в маленьком книжном, где он работал продавцом. Звали язычника Сигурд Сапун, а в миру – Сергей Сашечкин, и был он сорока с лишним лет великовозрастной дитятей с длиннющим хаером и густой бородою, рассказывал о том, как его нарекли: «Как-то короче шли, по берегу, далеко, и лодку у нас угнало ветром, и никого, и мы искали ее – вышел монашек к нам, попроповедовать, ну мы его приложили к камню – я и не знаю, откуда у меня возникли эти слова в тот момент, но откуда-то прямо возникли – прими, говорю, Один, господин наш, жертву, и чирикнул его по горлышку – символически, конечно, только провел, а младший жрец испортил немного момент, под руку что-то вякнул, что, мол, не надо… Будто я его впрямь убивать собрался. Ну, и лодку после этого мы нашли. Подошел я к князю – ты видел, князь, как все происходило, теперь нареки меня. Он такой посмотрел одну секунду мне в глаза: «Сигурд Сапун», и все. С той поры так прозываюсь. Родители, конечно, не понимают. Можно уехать куда-нибудь, в какое-нибудь место силы, чисто на два дня уехать – вернуться, и уже алтарь мама разобрала: я, говорит, выкинула все лишнее…»
– Васенька, так а сколько у нас времени? Знаешь, там недалеко есть чудесный источник, – вкрадчиво начал тот, кого Вася назвал деятелем, звали его Виктор Викторович.
– Ну, я не знаю… Вообще-то я чаял планерки…
– Тяжела ты, шапка Махариши! Планерки он чаял. А то ведь такой источник там есть, чудо, благодать, избыток, вот бы мы Божиим промыслением там оказались, ведь рукой подать от того места…
– Ладно, посмотрим…
– А на Востоке, отец Владимир, надо вести себя так, знаете, немножечко… в стиле шейха. Смотришь в глазки мальчика – и чуточку сквозь них... Виктор Викторович не так давно побывал в Иерусалиме, рассказывал о впечатлениях.
– А то ведь обдерут как липку мальцы. Они просят пиастров – гив ми ван доллар – тут нужно с любовью, молчаливо, глядя сквозь лобик юного морджахеда, дать понять, что ничего не выйдет. Торговля же с арабом – это целая пьеса. Я вхожу в лавку, устеленную коврами, и он меня встречает, как родного, с распростертыми объятиями – милый, друг, сколько лет я ждал этой встречи и за что полюбил тебя с первого взгляда. Дом возьми, лавку возьми, жену возьми – а за этот кубок только сто долларов!.. Старинная ручная работа, все гости твои, все ближние твои, и все дальние твои будут видеть этот кубок у тебя на столе, и спрашивать, откуда, и ты вспомнишь своего Абдуллу, своего далекого Абдуллу на другом конце земли, и как он отдал тебе все, что у него было – и всего за девяносто долларов. Видя упорство, Абдулла хватает тебя за грудки и рыдает – две слезинки, серьезно, выкатились на его заросшие щеки незнамо откуда – рыдает, что ты был его лучший гость, самый дорогой, для кого он не жалел ничего, он сейчас принесет тебе кофе, две чашки кофе, три чашки – и ты будешь пить у него, а уходя, возьмешь на память этот серебряный кубок, всего за восемьдесят. Невероятно, ведь ты лишил его всего, но он не может противиться своему сердцу и любви, которая в нем открылась – семьдесят долларов, и ты забираешь кубок!.. Он видит, что ты жестокий человек, ты не хочешь открыться навстречу так, как открылся тебе он сам – но всего шестьдесят, и он простит тебе даже это!..
– А на каком языке он все это говорит?
– На невообразимом. В речи мелькают арабские, английские и русские слова. Однако ты понимаешь его, словно апостол, которого опалил огненный язык святого духа, да и что непонятного-то. И дальше все новые витки этого бреда, и под конец он готов тебе приплатить. А получив пять долларов, отдает кубок и говорит, что с тобой можно иметь дело, и что, хоть ты его ограбил, ты навечно останешься ему самым желанным другом, и он ценит людей, которые приходят к нему поговорить и приобрести редкость, но в тебе он сразу заметил покупателя с большим вкусом и пониманием. Ну а с мальцами разговор короткий – нужно глядеть сквозь их черепушки.
– Но, Виктор Викторович, не всем же дан взгляд проницающий! – сказал Василий.
– Ну, надо стяжать его, – отозвался Виктор Викторович со смешком, но заметно польщенный.
В этой компании говорили с причудливыми инверсиями, стилизуя речь под старинную, но нельзя было понять, это все в шутку или всерьез.
А город между тем прекратился, и рваными полотнами потянулись леса, домики вперемешку с придорожными ресторанами, облака клубились над горизонтом и таяли на глазах. Стояла жара, автомобильный термометр показывал сорок градусов, не помогал даже кондиционер, с сипом выдувавший теплый воздух в лица притомленных пассажиров.
– Цельбоноснейшая вода! – продолжал Виктор Викторович рекламировать свой источник, а машина уже вкатывалась на битумную дорогу, и щебенка зацокала по бортам, словно в метеоритный дождь. – Благодатная вода имеет свойство вгонять демонов в легкую грусть, и Алене очень бы пригодилась, – хитрец-бородач пускал в ход аргумент сильный, ничего не скажешь, Василий, будучи истинным лыцарем пера и кинжала, мог клюнуть. – Покропить бы водичкой редакцию-то Аленке бы, глядишь и почище бы у нее там стало. Это был грубый ход: редакция газеты, где я работала, слыла среди истинных патриотов рассадником масонского заговора, укоренившегося прямо посреди Третьего Рима.
– Моя молитва мало что может, – сказала я, поскольку должна была что-то сказать.
– Верно, верно… Воду должен бы разбрызгать муж умудренный, опытный, искушенный в пре.
Тьфу на них, их ничем не перебьешь. Сограждан наших чарует состояние войны, и с этим ничего нельзя сделать. Скучно им жить в мире, непременно нужна какая-нибудь пря, борение, брань...
Автомобиль выкатился на взгорок, с которого открывалось поле, все в желтых веснушках одуванчиков, церковь – светлая, невысокая, с колокольней и привалившимися бок о бок один к другому сараюшками и сельским кладбищем, заросшим березами, в металлических крестах и – где поглуше – звездами на надгробиях.
– Вась, что-то я не могу открыть дверцу-то, не есть ли это какой мистический знак? – Виктор Викторович продолжал пошучивать, дергая ручку, хитро взглядывая по сторонам.
Отец Владимир, открыв дверь со своей стороны, уже вытаскивал из багажника кипы книг, перевязанных бечевой – он готовился расположиться под сенью берез и разложить фолианты: не то на продажу, не то так, для показа.
У церкви стояли машины, кучковался небольшой духовой военный оркестрик, богомолицы в платках, пионеры отчего-то в синих галстуках и пилотках. Как в Германской Демократической Республике во время оно, почившей в бозе одномоментно с родиной пионеров-красногалстучников, СССР. Один из них сиял солнцезащитными зеркальными очками, хищными, длинными, по последней моде сезона.
– Вы пионеры? – спросила я его.
– Нет.
– Скауты?
– Нет.
– А кто?
– Н-не знаю.
Учительница – отрывисто, пресекая ненужный разговор, кинула:
– Мы – патриоты!
Сооружалась импровизированная сцена, больно глазам мелькнул на солнце священник в шитой золотом епитрахили. Казачий генерал или еще какой ряженный курил в сторонке. Словом, тут собралось с каждого бору по сосенке, и готовился отчебучить чего-нибудь необычное самодеятельный ансамбль.
Из-за угла деревенской улицы вдруг вымаршировал небольшой клин с хоругвями и крестами, в черных одеждах бородатые мужичины гордо выпячивали грудь. У каждого на футболке под рисунком с панагии – крест и череп – еще красовались серебристые же ножи, в наложении, один на другом, как на флаге Веселого Роджера, знакомого по книжкам о сокровищах. Детский хор грянул когдатошний шлягер «Бессаме, бессаме мучо», который давно переиначил один московский бард на манер «бесами, бесами мучим…», а на могиле новомученика, у креста в рост, в дальней части кладбища, махал кадилом священник, и сизоватый дым плыл над полем – лопухом, подорожником, клевером, чертополохом – мешаясь с дурманящим запахом нагретой зелени.
Практическая, так сказать, цель нашего приезда была мне не полностью ясна, хотя заблаговременно я готовилась, бродила, изнывая от жары в редакции, по Интернет-сайтам, собирала обрывки сведений о том, что и так уже было мне известно из рассказов Василия. Едва ли теперь можно было выжать из этого концерта и хоругвеносцев репортажик для нашей газеты.
Родион Сергеев был новомучеником. Так получилось, он не готовил себя, хотел стать поваром. Едва ли разбирался, девятнадцатилетний, в вероучительных тонкостях и нашлись бы, конечно, люди, знатоки литургических вопросов, богословия и христологии, для кого он был бы недостаточно православным, недостаточно воцерковленным и, может быть, даже недостаточно умным. А вот Господь Бог «промыслительно преуготовил», как сообщалось на одном кривобоком и скудном сайтике, Родиона к своему служению. То есть Родион попал в плен к боевикам в первую Чеченскую, вдрызг проигранную войну, и там его принуждали принять ислам, то есть – сказать шахаду. Шахматная шахада, скорее шашечная, для тех «мусульман» простая, как проигранная партия: сказал – остался жив, не сказал – умер в муках, и так умер, что и мать не сыщет. Его самого и однополчан, вместе с ним сидевших в яме, пытали, снимали на видео. Потом, говорят, жалели, что оставили свидетельство – видеосъемку. На шее у Родиона был крест, самолично отлитый им когда-то из меди, – и крестик, и зеленый след на бледном теле от мажущегося металла, вместе с тонкой цепочкой, хранил он и прикрывал ладонью. Но не срывали – требовали снять.
Голову отрезали в день рождения.
Тело мать вызволяла из Чечни еще долго. Добрые люди советовали стать любовницей боевика – тогда бы вернее выгорело. Сфотографировалась какими-то правдами и неправдами с одним местным, фотка, истертая, служила пропуском там, где уже никакие пропуски не помогли бы. Тело вывезла в одну поездку, голову сына – в другую. Отец его, и ее муж, умер спустя два года, надорвавшись сердцем.
Видела я и эту мать в толпе – с короткими волосами, в повязке, внешне непримечательная женщина. Прошло десять лет. И бабка в платочке с розами все советовала ей, с надрывной искренностью просила:
– Вы сильно не расстраивайтесь. Всё, что случается, вот всё-превсё – к лучшему же. Ведь да?
Она отвечала как-то неловко:
– Да я не расстраиваюсь…
Пока шел концерт и мельтешили с приветствиями районные администраторы, я зашла в церковь. Она была в этот час пуста, только унылый дьячок с обвисшими усами читал прерывающимся слабым голосом Псалтирь, пришепетывая и шепелявя. За дверью репетировали певчие, визгливые женские голоса заплетались в воздухе в причудливую косицу мелодии. В левом приделе еще один батюшка вешал на пластмассовые неосновательные, тонкие плечики свое одеяние, расшитое крестами, узорами. Тяжелая фелонь соскальзывала, обнажая холщовую подкладку. Жарко, наверное, в таких убранствах. Да они не простые – символизируют вретища. Христос не носил, конечно, подобного. Может, ему не надо было.
Муха жужжала в пространстве храма. Одуряющее однообразный звук вкупе с бормотаньем чтеца погружал в сонливость и навевал смутные воспоминания о школьной скучище.
Поглядев на иконы, сплошь новые, и тяжелые темные царские врата, вышла. В поле цвенькали соловьи, совсем нынче спятившие от радости, пели «Подай, Господи!» над могилой, бравурное сыпал, частил оркестрик, и все звуки перебивали друг друга.
Виктор Викторович вырос ниоткуда, как лист перед травой – Василия он уже почти взял в полон, а отец Владимир оставался при своих книгах. Решено было ехать, и последние возражения гасли, встречая мягкий напор агитатора.
– Да там двадцать верст, самое большее – тридцать, а водичка целебнейшая. Были так близко – и не попали.
– Виктор-Викторыч, мы тут как-то ездили с одним батюшкой, он тоже вот так – тут близко да близко, двести километров отмотали. – Отнекивался из последних сил Василий.
– Ну, в крайнем случае, пятьдесят, я вам говорю, ни километром больше! Не то он не замечал, что пользуется проверенной арабской методологией в разговоре с несговорчивым собеседником, не то нарочно прибегал к этой веками проверенной тактике.
И вот уже:
– А мне так и вовсе ничего лучше дороги не нужно, – произносит Василий, покручивая «баранку».
Я устроилась на сей раз все-таки на заднем сиденье, и была вознаграждена тем, что доброй половины рассказов впередсмотрящего Виктор-Викторыча не слышала за гулом мотора, хотя он то и дело поворачивался ко мне ненароком втретьоборота, глядел хитрым глазком, так что не распознать – на тебя или так, в поля – и я время от времени на всякий случай кивала китайским болванчиком.
Когда прямо перед капотом посыпались листы фанеры с грохотом, ударяясь плашмя и подскакивая на дороге, Виктор-Викторыч оживился чрезвычайно, он заявил, это знак, друзья мои, да-да, явленный нам знак истинных приключений, мистических путешествий, которые несомненно… тут неслышно… и в конечном итоге… тут жужжание мотора… так что будет все именно так, как… неразборчиво… и мы оба еще скажем ему доброе слово.
Талеж встретил европравославным ремонтом, новомодным забором – не только своим, чугунным, литым, которым богатое подворье могло обнести свои угодья, но и напротив забор тоже был какой-то особенный, мнимо простодушный, художественный, где каждая плашечка отесана отдельно и любовно пригнана к соседней, а в центре – резная рожица. Так и смотрели друг на друга эти рожицы и лик Спаса над вратами.
– Ну вот теперь-то видите, видите, что не напрасно было это все, наше путешествие увенчалось, – говорил Виктор-Викторыч, быстро и нараспев. Сойдя по лестнице – крутой, винторогой – умылись холодной водой в мраморной чаше. Виктор-Викторыч отплевывался, отфыркивался, приговаривал: «Хорошо!» И вперевалку, торопясь, пошел к деревянному домику – там была купальня, и в приоткрытом дверном проеме золотились нимбы иконы, на фоне которых и борода нашего предводителя обрела необыкновенное, нежданное благообразие.
Я тоже вошла в купальню, в женскую избу поодаль. Там разоблакались две паломницы, выпрастываясь из бесконечных юбок. Меж ними шел разговор.
– Только я не смогу, нет, не смогу.
– Ты попробуй.
– Нет, не смогу.
– Да ты спробуй.
– Ну, я хорошо, я попробую. Но голову не буду мочить, не буду.
– Да ты намочи.
– Да мне еще на работу сегодня, на работу.
– Быстро высохнет.
Я тоже скоренько бултыхнулась, ожглась ледяной водой, выскочила поплавком из купели.
На солнечной улице после холода было как мороженому эскимо, что ли, быть вытащенному из морозилки – покрытое инеем, оно исподволь начинает плавиться.
Виктор-Викторыч, наклонив голову, вытряхивал воду из уха, подставлял бороду лучам и приговаривал:
– Солнечные ванны… Господи, благодать!
Василий с мокрой головой, взъерошенный, похожий на грача, оглядывал подстриженный газон, любовно прибранные один к другому декоративные камни особой красоты, обтесанные, и весь этот православный евроремонт преуспевающей обители.
– Красиво…
Фонари глазели из зеленой травы, ожидая сумерков, чтобы подсветить в синем воздухе розовую, словно глазурную, маленькую колоколенку.
На обратном пути встали в пробку.
– Ну вот ехали, ехали, и приехали, – расстроился Виктор-Викторыч. – Да выключи ты эту лабудень – у меня ламбада есть! Музыка воинов духа. Было снова непонятно, шутит он или нет.
– Я этот диск долго искал, везде – и нигде не было, вот сейчас дойдем до одной композиции, и снова откроется нам дорога. Да, да, промыслительно все, друзья мои – а вы думали просто так, хлоп-хлоп, и получилось – ничего подобного. Глотнули водички – а теперь пробочки глотните, глядишь, и научитесь задумываться о превратностях-то бытия. Вот мы как-то с отцами на днях славянской письменности тоже так попали, в Новосибирске. Сидим, выступает администрация, концерт с этими бесамемучами, как водится, отец Нафанаил сказал о великих просветителях славян, болгарах-иноках Кирилле и Мефодии, тут выпрыгивает на сцену, ровно чертик из табакерки, Вика Цыганова, и не сказать, что будто в макси. В самом что ни на есть неглиже выскакивает Вика – ну, я говорю, отцы, надо как-то отношение наше обозначить, неудобно, потом скажут, отцы голую Вику слушали, это шум на всю губернию. Встали, тихонько вышли из зала-то. А бабка с портретом Че-Гевары на майке и говорит: «Эх, вы – наше золотко к нам приехамши, Вика наша родная, а эти – взяли прямо да и вышли, не стали Вику-то слушать. И как могли, ироды!.. Уже ничего святого».
Несмотря на байки, и на волшебную композицию, которая должна была мистически открыть дорогу, – а до нее наконец дошло без переключения – пробка все не рассасывалась. Автомобильный металл и синтетика сидений выжгли воздух. Впереди раскорякой встал трейлер. Справа заглохли «Жигули». Молчали светофоры. Изнывая, мы дымились в машине. Даже Виктор-Викторыч поутратил свой боевой настрой. Он вытирал лоб большим и уже мокрым клетчатым платком и больше ничего не рассказывал.
– А что, почему Родиона до сих пор официально не канонизировали? – проговорила я, вспомнив от жары о своих журналистских обязанностях. – Какие этапы в православии проходит канонизируемый святой? Вот не так давно папа Римский Иоанн Павел II прошел беатификацию…
– Одну минуточку, Аленушка… – Виктор Викторович оживился. – В католичестве вообще не может быть никаких святых. Католическая церковь никогда таковой, кафолической-вселенской, и не являлась. А правильно говорить – римско-католическая.
«Сейчас про масонов затрут», – подумала я какой-то чужой, нечаянной посторонней формулировкой, с легким, но и чуть азартным ужасом.
– Мученик – это особый чин небесной иерархии, – продолжал Виктор Викторович. – Он мученик с момента, когда предал душу Господу. А не с момента, когда его признает специальная комиссия. Тут стали разговоры разговаривать в том духе, мол, а был ли мальчик. А он крест отказался снять, люди ему молятся, иконы мироточат. И не нужно никаких особых свидетельств, никаких дополнительных чуд. Он не святой-монах, прославленный боговидением, а воин-мученик. Тут другое. Должность другая у него.
– Нет, ну а что же, вы совсем, что ли, отказываете католической церкви?..
– Не так всё просто, не так всё просто! – перебил он. – Ох и непросто всё!.. Верим ли мы в истинность нашей церкви? Вот как вопрос-то стоит. Таинства нашей церкви благодатны? Да. Других церквей таинства безблагодатны, ведь так? Так?
– Я не знаю.
– Ну а как же? Ведь это логика цивилизационного развития!..
Пробка стронулась, и часть речи потонула в реве застоявшегося мотора, а когда снова стихло, Виктор Викторович перешел уже на ИНН и действительно костерил масонское правительство.
Но и Василий, к моей оторопи, поддержал этот разговор, вдобавок предупредив:
– Алена, ты не думай, пожалуйста, что это специфический такой вот патриотический бред. Ничего подобного. Это все происходит реально. И ведь с годами тенденции будут только усиливаться. Для государства уже и сейчас не существует человека – а только некий безличный номер. Со временем мобильные телефоны, электронные карточки, идентификационные номера, паспортные данные, всевозможные анкеты и все прочее – все это сольется в некий специальный чип, который вошьют под кожу.
– Антихрист же как придет? – вставил Виктор Викторович. – У Иоанна прямо сказано: И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.
– Да, вот ты не сталкивалась с печатями, что светятся ультрафиолетом, в московских клубах? – спросил Василий. – Охрана оставляет оттиск на запястье, чтоб человек мог беспрепятственно ходить туда-сюда. Но это может и пустяки, а если без такой печати, без чипа человек уже и в гипермаркете ничего не купит? Представь – города-гипермаркеты, и каждый продает и покупает, а вся информация записывается. Это уже сейчас происходит!
– Ну Вася, ну хоть ты-то, – сказала я. – Во все времена эсхатологические настроения у людей то усиливались, то ослаблялись. А когда паспорта давали – тоже люди отказывались.
– И не зря отказывались – не дураки были! Между прочим, новые паспорта, – подхватил Виктор Викторович тему, – вы думаете, просто так полоски там на фотографии? Поглядите, поглядите-ка на просвет. – В доказательство он извлек свой паспорт и стал сквозь страницу смотреть в окно. – Тут вот такая штука, весьма напоминающая три шестерки. Полагаете, это так, случайно дяди написали? О, простецы!.. Между прочим, тут вшита линия, она дает сигнал на спутник, и местонахождение ваше определяется в считанные секунды с точностью до нескольких метров…
И так они вкручивали мне весь путь, ведь я, безвинный пленник этих изуверов, была запаяна с ними вместе в железный хитин, раскаленный панцирь автомобильного жука, ползущего по бесконечной подмосковной пробке. И впереди замаячил переезд, готовый опустить непреодолимый шлагбаум, и засемофорила со всей определенностью угроза впадения в неразвлекаемый транс.
Через два часа сорок минут мы подъехали к конечному пункту назначения – станции метро «Парк культуры».
– Ну а теперь – отметим, пожалуй, удачную поездку?
– Пятница, нельзя же…
– Можно, сегодня праздник особый, большой. Немножко можно – не до самозабвения, а так, слегонца.
Потирая сухие маленькие ручки, Виктор-Викторыч уже предвкушал дальнейшее, а я сошла. И, глотнув воды, уже с пластиковым вкусом, из бутылки с оторванной этикеткой «аква-минерале», ни минуты не стоя в автомобильном чаду проспекта, устремилась на пресс-конференцию: волка ноги кормят.
Тема пресс-конференции пожалуй что не важна. Я видела на противоположном конце круглого стола знакомую журналистку из другого издания, с нацеленным в президиум диктофоном – на шее, в розовом вырезе, у нее болтался металлический плейбойский кролик, а светлые пряди вились мягкими волнами вдоль зачарованного лица.
Выступающие тоже давно были знакомы, что позволяло им обращаться друг к другу на «ты» и с задушевно-доверительными интонациями.
– Ты понимаешь, Коля, русской культуры уже нет, я говорю об этом с девяностых годов, нет единой культуры – как бы нам ни хотелось.
– А что есть?
Не-Коля беззвучно пошамкал, нащупывая более правильные слова, пощипал свою рыжую бороду в надежде, видно, вытянуть из нее хоттабский волосок для волшебных, чарующих слушателей словоизлияний, и начал:
– Ну есть масса каких-то, я не знаю, культурных анклавов, и они никак не пересекаются, в каждом из них выстраивается своя иерархия ценностей…
Сотрудники информационных агентств прилежно шуршали ручками в блокнотах – им еще надо было сегодня отдиктоваться – а обозреватели еженедельников мирно спали, передоверив свой слух диктофонам.
Я вышла из здания и увидела напротив, наискосок через улицу, католический собор, весь в избытке тонких башенок и витражный. Из динамика на улицу лился органный огненный строгий голос – вспомнив спасительно, что в костелах стоят скамейки, и можно передохнуть, я рванула туда со своей пластиковой бутылкой иноконфессиональной святой воды, скрипнула дверью, растревожила блаженно плававшего в музыке служителя на стуле, сунула ему двести мятых рублей и примостилась в уголке за колонной – однако так, чтобы видеть край зала и распятие над алтарем.
Здесь, в этом вражьем для моих сегодняшних сопутников храме, за которым они не признают наотрез и вовек никакой благодати, орган сыпал серебристые грозные ноты, и они с серебряным и латунным звяком ударялись о каменный пол и отслаивались от прихотливых витражей, за которыми постепенно темнело. Белый Иисус, видно, мраморный, раскинув мощные руки на кресте, клонил голову на бок, и две траурные фигуры, тщательно задрапированные – закутанные в тяжелые каменные складки, с хорошо прорисованной и тонко изваянной скорбью, размещались у него одесную и ошую, как вечные стражники.
Орган продолжал говорить, полный достоинства, страха и восхищения, то переходил на шепот, то возглашал громоподобно, и это было похоже на тяжелую ткань, с нашитыми серебряными чешуями, которая разворачивается, покрывая каменный шахматный пол, бесконечно.
И как-то вдруг, сразу, я увидела весь этот телескопический, калейдоскопический день – поездку в поездке – он сложился в сознании, как старинная подзорная труба, в деревянный брус. И сквозь зеркальную линзу этого дня, подумалось, я смогу когда-нибудь увидеть всех нас, на ладони Бога – и словно сердитого во время панихиды Василия, ойкающего, когда священник просит его голой рукой положить ему уголь в кадило, и Виктора Викторовича с его перистой серебристой бородой, и себя саму, корреспондентку, у которой голова набита всякими априорными представлениями обо всем подряд. И мою знакомую девочку из другого издания с кроликом на шейной цепочке, и казачьих ряженых, и всех священников этого дня и всех других дней, и Колю с его молчаливым согласием, и Не-Колю с анклавами, и органиста из Зеленограда (так сообщала программка концерта). И над всеми нами будет стоять Родион с иконописным лицом, в красном плаще, в каком пишут воинов – а на том плаще проступят у него сами собою пятна пограничного камуфляжа.