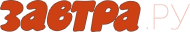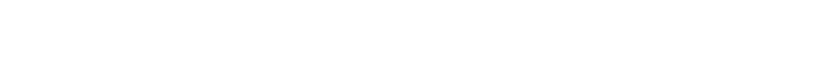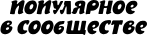Если с февраля 2022 года в Европе и Америке стала модой и до сих пор не вышла из неё мысль об отмене русской культуры, не стоит ли нам нанести ответный удар и разобраться с сохраняющимся влиянием западной словесности на территории Российской Федерации?
При нашей русской всемирности вопрос может показаться откровенно дурацким, гротескно шутовским. Побить хочется такого вопрошателя! Гнев и сарказм усиливаются, когда узнаешь, что автором вопроса является заведующий кафедрой зарубежной литературы Кубанского университета. Однако я бы со смехом не спешил.
Соратники по апологии Русской Идеи порою говорят так:
«Россия слишком открыта для влияния чужих текстов. Литература – это всегда народность, находящаяся под контролем ее родного языка, следовательно, и особого круга понятий, влияющих на читателя, претендующих на его душу. Когда мы начинаем любить западных писателей, переживать их как свое и своих, мы готовы бесконечно принимать и прощать – уже не авторов и произведения, а породивший их, например, англосаксонский мир. Вслед за иноземными сюжетами наше сознание переселяется в страны потенциальных захватчиков, смиряется с ними. Когда мы читаем Виктора Лихоносова или Валентина Распутина, мы остаемся дома, готовы защищать свой дом. Если же с нами Томас Манн или Джонатан Франзен, наше переселение может стать столь же очевидным, как в случае принятия другой религии».
Не иноагент ли западная литература? Отменой – на отмену?
Я рос в семье советского литературоведа-американиста, одного из самых известных в Советском Союзе 1960-х – 1980-х годов. Я был окружен полками книг, слева и справа нависали надо мною собрания сочинений Твена, Рида, Лондона, Хемингуэя, Драйзера, Купера, Эдгара По. Не было недостатка и во французах с англичанами, на видном месте Томас и Генрих Манны, Кальдерон с Ибсеном тоже здесь. Николай Иванович Самохвалов, мой дед, был зарубежником и патриотом одновременно, здраво транслируя значимую идею советских гуманитарных наук:
«Лучшее в западной словесности – наше! Переводить надо объемно и качественно, издавать многотиражно. И не потому что врага надо знать в лицо. Всё проще и глубже одновременно: буржуазная элита желает нашей смерти, американский народ хочет того, чего хотим и мы – нравственной жизни! Да, есть литература модерна (не великого реализма!), с ней история более сложная. Но вся зарубежная древность, средневековые эпосы и рыцарские романы, ренессансы, классицизмы и романтизмы делают советского человека выше. И когда мы знаем американскую литературу лучше, чем граждане США, мы уже побеждаем Америку!»
Литература – национальная крепость или есть в ней шанс на благую всемирность, верный ответ на вызовы глобализма? Ведь глобализм обслуживают не Мелвилл с Флобером и не Бодлер с Уайльдом, а специально продвигаемые проекты: Коэльо с Брауном, Вербер с Мураками и Янагихарой.
Я стал преподавателем кафедры зарубежной литературы Кубанского университета в 1991 году. Мое сложное, но все же воцерковление, и начало педагогической карьеры шли параллельным курсом. К моей радости на меня свалилась классическая филфаковская дисциплина «История зарубежной литературы Средних веков и Возрождения». Она и сейчас изучается во втором семестре первого курса. Впрочем, я ещё студентом понял, что с этой дисциплиной что-то не так. Изучаем рыцарей и Данте, слышим, кому молятся Роланд с Дон Кихотом, но не можем ничего знать о главной истории, о ключевом мифе, породившем европейскую классику. Христианские ключи доставать нельзя!
Когда мне при помощи старших друзей и мудрых наставников удалось исправить ситуацию, в программу вошли семь библейских книг (Бытие, Иов, Экклезиаст, Иона, Евангелие от Матфея, Евангелие от Иоанна, Откровение Иоанна Богослова), три жития (Алексия человека Божия, Марии Египетской, Симеона Столпника), «Лествица» Иоанна Лествичника, духовная поэзия Ефрема Сирина, Романа Сладкопевца, а также «Исповедь» Августина. Не только справедливость по отношению к средневековым сюжетам была восстановлена, но появилась неожиданная «Русская зарубежная литература», потому что Библия и Византия охватили Запад, не просто разбавили одиночество автора «Божественной Комедии», а создали важнейший курс религиозной классики, стали введением в христианскую словесность. Конечно, не только католическую. Да и не только введением.
«Русская зарубежная литература» звучит противоречиво, но отбрасывать такое предложение не стоит. Когда западные тексты приходят системно, как цельный материал семи или восьми семестров, на первый план выходят переводчики, языком познания западной словесности становится русский.
Что происходит в этом случае? Оппоненты готовы подвести черту: российское сознание оказывается под многочасовой атакой чужих сюжетов, способных построить иную систему ценностей; в этой системе душа читателя, очарованная образами многовековой Европы, теряет родную почву, идет на зов рапсодов, трубадуров и поэтов декаданса.
Я не спорю, что так может быть. Иногда студенты (особенно на ранних курсах) отдают предпочтение зарубежному, потому что свое им кажется изученным – хотя бы в школьном совершенстве, да еще сопряженным с ЕГЭ. И все же мой опыт подсказывает другой вывод. Нельзя знать все языки, но русский язык становится посредником в переводе европейской классики и современных текстов. Не просто посредником, ведь язык не слабее рассказанных историй. Язык через мастерство переводчиков и приближает далекое, и по-своему колонизирует его, превращает в область национальной словесности. Говорящие по-русски Мильтон или Селин пребывают в области мощной амбивалентности, при этом работают на становление сюжетов русского языка и отечественной рецепции английских или французских эпосов.
Кто-то закономерно скажет: зарубежная литература должна присутствовать на романо-германских факультетах как пространство изучения европейских языков. Можно ли с этим поспорить? Вроде нет, английский – с Байроном, немецкий – с Шиллером. Однако я категорически не согласен, когда подавляющее большинство лингвистических факультетов страны изгнали из своих пределов зарубежную литературу как историю всемирной словесности, лишив студентов прозы и поэзии как русско-европейской совместности, протяженности и совместной сюжетности.
Именно фрагментарность при учебной монополии иностранного языка вытесняет русское сознание, которое имеет больше шансов состояться, если «русская зарубежная литература» (объединяя все значимые движения в словесности) показывает историю Запада как трагедию и комедию, как эпос и фарс – в их сложнейшем взаимодействии. Тот, кто заперт в изолированную догматику английского языка, легче становится западником; совмещающий познание английского с русской версией движения мировой литературы имеет больше шансов остаться апологетом русского.
Сейчас Запад смотрится у нас как дьявол и антихрист. Намного реже мы говорим: участие Запада в создании христианского мира неоспоримо, а теперь христианство в Европе и Соединенных Штатах гонимо. Есть Запад глобализма, борьба с ним не может быть быстрой и легкой. Есть Запад Христа – можно в пессимизме сказать, что он остался только в литературе, но ведь там он есть! И православное сознание, неизбежно выходя из восточного богословия и церковности в разноцветный мир, обретает в истории европейской словесности трагический путь христианина – полный художественности поиск Бога и образов его служителей.
Канон ли это? Вряд ли. Зарубежная литература для нас точно апокриф. Но сказать, что он всегда против Иисуса и Евангелия – поставить пропагандистскую рациональность выше правды, выше западной драмы секуляризации, встраивающей Библию в контексты политических изменений.
Западный апокриф о совместном движении Христа с мировой историей – это и есть европейская литература! В писаниях Сенеки и Марка Аврелия Рим, все еще сохраняя пустоту поздней античности, движется в сторону мужественной силы внутренних миров. Пусть без любви, но – шаг за шагом, не без дальних сигналов от Сократа и Платона. Стоящий на месте встречи Запада и Востока Августин со своей «Исповедью» учит каяться, сохраняя интеллектуальную словесность как храм, в котором прежние книги не сгорают, участвуют в поиске правды. Немецкий Зигфрид и значительно больше французский Роланд не только салютуют Ахиллесу, но и показывают, как сочетаются крест и меч, проповедь и война. Франсуа Вийон и особенно ваганты словно рассказывают анекдот о падении христианского мира – и тут же набирают высоту, показывая гротескные усилия средневековой Европы по разоблачению всегда присутствующих фарисеев.
Легко сказать: Запад отверг евангельскую любовь. Литература позволяет перейти от констатации и отстранения к интриге, сталкивающей духовное и мирское в поиске ответа на вопрос о мужчине и женщине. В сюжетах Тристана с Изольдой, Ланселота с Гвиневрой, Данте с Беатриче любовь, страдая между Богом и землей, делает героические шаги по сохранению христианства, по защите восхождения и бессмертия там, где ренессансные технологии уже на подходе. Да и флорентийский Боккаччо – это разве только о раскрепощении и давнем либерализме, а не об умном смехе, который показывает устройство ватиканских тупиков?
Литературное европейское христианство умеет шокировать – возможно, не меньше новейшего европейского либерализма. Только вряд ли праведность всегда рискующего интеллигента сильно повысится, если через шок «рыцарства» (в самых разных вариантах) художественно не пройти. Можно ли выйти и остаться там с головой? Да. Литература – сфера, где гарантии и страховки достаточно условны. Но в этом контексте можно без проблем увидеть серьезнейшие риски и в нашей словесности Серебряного века, с ее поздним декадентствующим «рыцарством».
Вспомнил о плохом тексте, он появился на нашем языке ровно тридцать лет назад – «Евангелие от Иисуса» Жозе Сарамаго. Литературный апокриф тяжелого действия, переписывающий евангельскую историю в согласии с постмодернистской стратегией расставания со всеми метаисториями. Они в сознании Сарамаго и легионов стоящих за ним неоинтеллигентов и есть бесконечный тоталитаризм мифа. Португалец предлагает свою версию христианской истории: несчастный человек готов потерять свою свободу ради опасной фантазии, всегда повышающей уровень страдания и в крови отдельного человека, и социального мира в целом.
Страшный Сарамаго полезен – как диагност давно случившихся болезней, как зеркало, в которое смотрится западный мир, поменявший Писание на пустоту и утверждающий, что в этой пустоте и есть истинная демократия. Мол, любой священник жаждет ритуальной жертвы, освобождающийся от власти мифа сразу – на пути к строгому земному счастью. Но зеркало подсказывает: не соглашаясь с Иовом и Христом, Сарамаго вместе с формально легким постмодернизмом лишь увеличивают мучения сознания, потому что уходят вера, надежда, любовь. А сами фабулы утрат и катастроф на том же месте, где и были. Куда им деться!
Западная словесность – здравая помощь в осознании падений. Даже тогда, когда она представляется пропагандистом духовных утрат. Поэтому еще важнее Мишель Уэльбек, которого в России много читают, нередко принимают – как своего. С одной стороны, все его герои (эти «мишели» и «джеды») субъекты безнадежности и уже до конца измененного сознания, депрессивной констатации присутствия прижизненной смерти и отсутствия любого воскресения. С другой стороны, через Уэльбека Запад предупреждает о том, что в мироотрицании он шагнул дальше, и случившаяся в уэльбековских романах «гибель Европы» не французский эксклюзив, а очень даже присутствующее искушение для всех – не любить, не рожать, расстаться с философией истории вместе с повышением дозы антидепрессантов.
Можно говорить, что все западные архетипы обрусели – и гениальная русская литература (особенно в усилиях прозы XIX века) дала в своем опыте всё необходимое, чтобы мы в национальных сюжетах встретили Гамлета, Дон Кихота и Фауста. Так мы и Христа здесь встретили, но это ведь не отменяет необходимость Нового Завета в каноническом единстве двадцати семи книг!
Пожалуй, я чуть упрощу, ради наших союзнических отношений с лучшими началами западной словесности. Дон Кихот ведь не просто романная проповедь юродивой любви и воодушевляющего сердечного пути. Он – предупреждение о взрыве внутри Ренессанса, когда вслед за Леонардо или Эразмом идут мещанствующие фарисеи, посылающие подвиг в архив.
И если Дон Кихот – вечный русский союзник (да, и опасность кихотической революции тоже здесь!), то Фауст – предупреждение о глобальной инверсии в границах западной цивилизации: колонизация «варваров» происходит в переписывании и трансформации Священного Писания. Теперь новый Иов (и новый Христос), сопрягая колокольный звон с «тьмой могил», по-фаустовски лихо ищет Мефистофеля для новой, уже не христианской религии. Разве «Фауст» не исповедь Запада, которую нам надо слышать и не забывать?
Однако с литературой просто не бывает. И тот же Фауст в противостоянии с Вагнером не просто символ движении западного мира, но и борец с нарастающей бесчеловечностью глобалистской науки, с «друзьями Иова», которые способны утопить мир в фарисействе. Трагедия! Гёте не случайно назвал «Фауста» так.
Ещё сложнее с Гамлетом. Он один из тех, кто держит ключи от русской «школы архетипов». Кто он – благородный воин, в одиночку вышедший биться с Клавдием и пустотой? Или датский принц – агент этой пустоты, «антихрист» Нового времени, насыщенный соблазнительной красотой фиктивно освобождающего небытия?
Кихот наш? Фауст враг? А Гамлет – искушение, способное привести к силе и праведности? Архетипы можно не заметить, сказать, что пусть с ними разбираются их европейские создатели. Но такая уж особенность у архетипов: когда их не замечаешь или отказываешься от них, они готовы поселиться в нас еще навязчивее, еще бессознательнее.
Я бы ещё сказал, что в западной литературе нет апологии политического Запада. А вот то, что есть наверняка – это «базовые настройки» через многое прошедшего человека: у Чосера, Шекспира, Бальзака. Сейчас, когда человека пытаются отменить, объявить аутсайдером в гонке трансгуманистов, болезненный гуманизм классических европейцев представляется здоровьем.
«Западный канон» - так называется главная книга большого американского литературоведа Блума. Там есть место Достоевскому и Толстому. Нам нужен «Русский канон». Шекспир там не будет первым, но своё место найдет. Блумовский текст написан страстно и печально, написан как гимн литературе, которую пытаются убить бездушные прагматики.
Харольд Блум видит в истории всемирной литературы состоявшуюся защиту человека от самых разных утопий. Литература необходима! В ней Запад, Восток и Россия способна строить союзы более долговечные, чем в политике. Литература представляется особенно необходимой, когда читаешь книгу Михаила Эпштейна «Будущее гуманитарных наук» и слышишь от опытнейшего литературоведа и скромного глобалистского генерала: «Бог стал человеком, чтобы человек стал киборгом». Это не точная цитата из Эпштейна, это железная логика его служения. Противозападного и антирусского одновременно.
У наших противников мода на отмену человека и убийство литературы будет только усиливаться.