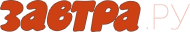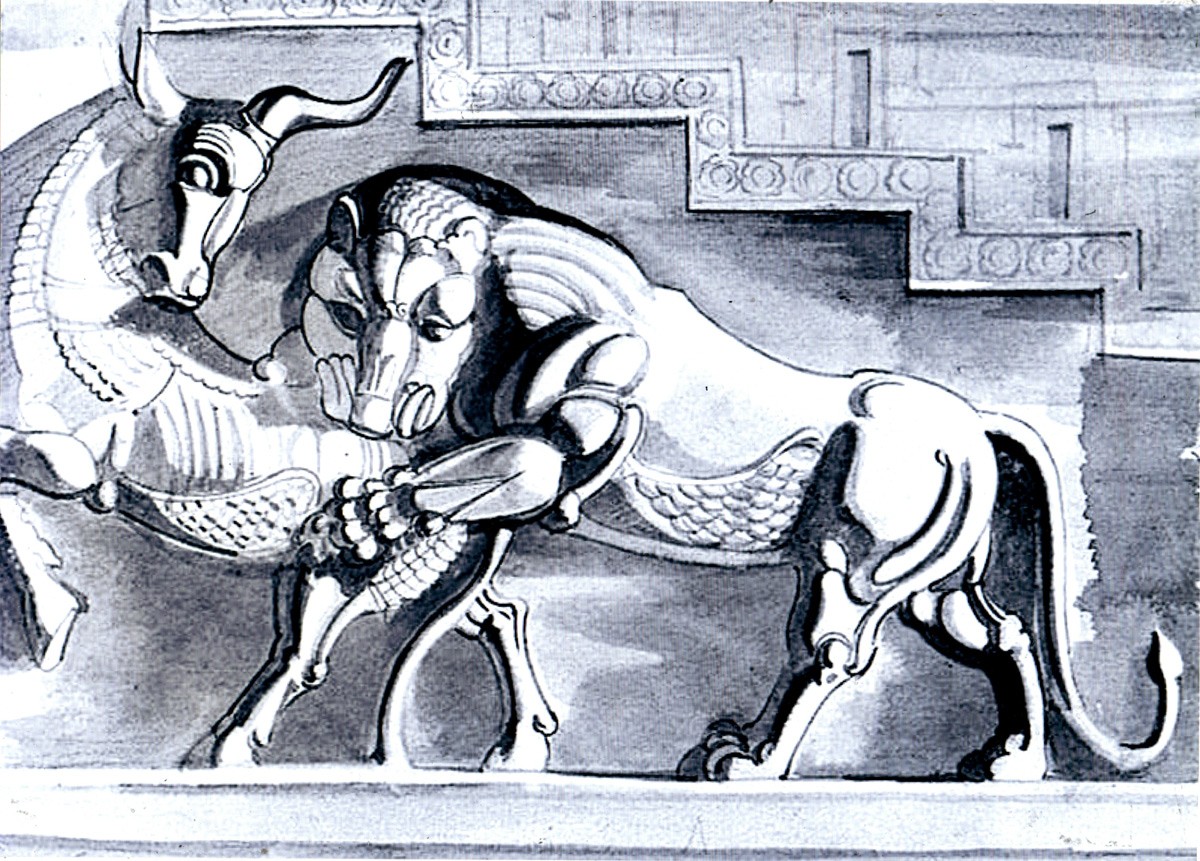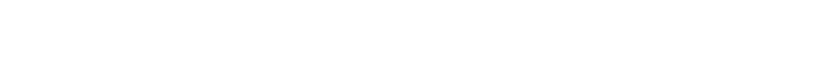Романы «Шатуны» и «Московский гамбит» представляют собой две стадии единого метафизического процесса, в котором Юрий Мамлеев последовательно развивает и преодолевает собственную доктрину.
Центральным выражением этой философской эволюции служит формула из «Судьбы Бытия»:
«Если высшая форма самосоотнесенности и бытия может быть выражена формулой Я = Я, то в Бездне можно себе представить формулу Я = Я ≠ Я. Это значит, что хотя вечное Я сохранено (первая часть формулы), но в самой Бездне тождество разомкнуто... то, что находится по другую сторону Я, не есть само Я... а есть то, чего нет» (СБ, с. 95).
Именно эта формула задаёт вектор философского поиска автора.
Роман «Шатуны» посвящен проблеме Высшего Я и тесно связан с первой главой из «Судьбы бытия» — «Метафизика Я». Речь тут идёт о богореализации, которая у Мамлеева тождественна самореализации: человек более не считает Бога неким внешним, принципиально недостижимым «объектом», Творцом, отделённым от самого человека неперодолимой дистанцией, но обнаруживает Бога в самом себе как своё подлинное, вечное Высшее Я.
Центральный смысл этого процесса — преодоление идеи трансцендентности Бога: Высшее Я человека тождественно Богу, Абсолюту, является им самим, хотя и сохраняет при этом личностый, индивидуальный аспект. В одном из интервью Мамлеев поясняет:
«Когда это Я, но не Эго, конечно, а Высшее Я, соединяется с Абсолютом, то существует такая его “окраска”, которая может позволить ему образовать как бы отдельный Абсолют; то есть продолжить своё существование не только в качестве целого, но и в качестве чего-то единственного. Выражаясь христианским языком, тождественное, но неслиянное» (СБ, с. 256).
Это и есть «Я = Я». В «Шатунах» красочно представлены практические аспекты такой самореализиции, хотя уже в финале романа звучит первый вызов этой доктрине. Падов вдруг слышит «зов Бездны»:
«Если я захочу послать всё в Бездну: и это Я, и абсолютную реальность, и Нирвану, и Бога... Но я слышу зов какой-то бездны…» (Ш, с. 391).
Этот «зов» находит своё неожиданное — и радикальное — развитие в «Московском гамбите». Здесь речь идёт о том, что Абсолют как полнота и единство бытия также имеет свой «предел»:
«Человек может быть трансцендентен самому себе и даже трансцендентен по отношению к Абсолюту, как это ни парадоксально звучит» (МГ, с. 217). —
утверждает Саша Трепетов — первый в литературе «трансцендентный бунтарь», который не отрицает Абсолют, но ищет то, что лежит за Ним, за Его пределом. Его афоризм:
«Я, обретший бессмертие, ухожу в ночь» (МГ, с. 218) —
фактически, раскрывает вторую часть формулы: «Я ≠ Я».
Но что это значит? Если вся реальность уже сосредоточена в Высшем Я, и оно тождественно Абсолюту, разве это не означает, что «предел совершенства» уже достигнут?
«Этот приход [к Богу] означает... безусловную победу над смертью... Вместе с тем означает ли это «приобретение» конец всякой идеи трансценденции?» (СБ, с. 89).
Этот вопрос становится главной осью повествования «Московского гамбита». Реализация Абсолюта здесь уже не цель, а необходимое условие: «институт», который нужно окончить, чтобы начать настоящую жизнь
Для героев «Шатунов» Бездна — немыслима, потому что она означает смерть «Я».
Для Трепетова Бездна — высшая тайна, потому что она предполагает достижение абсолютной свободы, в том числе и свободы от «Я».
Таким образом, если «Шатуны» — это роман о самореализации, то «Московский гамбит» — роман о выходе за пределы.
Первый утверждает: «Я = Я есть Реальность».
Второй вопрошает: «А дальше — что?»
И отвечает: Бездна.
Главная тема романа — бессмертие
«Московский гамбит» — это роман о поиске бессмертия. Но речь здесь идёт не о религиозной установке о «пакибытии души после смерти», которую можно принять лишь на веру и с оговорками. Бессмертие в этом романе — метафизическая задача, онтологическая необходимость, личный вызов вечности, который каждый герой решает по-своему.
Как сказано в «Судьбе Бытия»:
«Цель: вырваться за пределы воплощений, обрести бытие и за-бытие, которое вечно и которое не прекратится, даже когда исчезнет не только наш мир, но и все миры вообще» (СБ, с. 259).
Именно эта цель объединяет основных героев романа — участников «мистического московского подполья». Но каждый из них движется к ней по-своему:
- Катя Корнилова обретает бессмертие в единстве со своим Высшим Я;
- Валентин Муромцев — ищет его в творческой самореализации;
- Нина Сафронова — играет в оккультные игры;
- Леха Закаулов, Олег Сабуров, Борис Берков — уповают на социальные аспекты спасения человечества;
- Кирилл Леснев — в практике адвайты-веданты.
Их сюжетные линии формируют многослойное поле поиска, в центре которого — Александр Трепетов, для которого бессмертие — не цель, но повод идти дальше, за пределы самого Абсолюта, в Бездну внереальности, «то, чего нет».
На этом построен основной конфликт романа: бессмертие — не конец пути, а его начало.
Катя Корнилова: бесконечное упоение самобытием
Образ Кати Корниловой — прямое продолжение линии Анны Барской из «Шатунов». Можно сказать, что это тот же персонаж на следующем этапе самобытия, она уже не ищет саморализации, для неё это — свершившийся факт; Катя полностью и осознанно пребывает в реальности «Я = Я».
Она искренне и глубоко переживает это состояние, которое наполняет всё её личное бытие радостью и смыслом. И этот самобытийный экстаз — не вспышка эмоции, а онтологическое откровение, которое происходит из самой глубины Высшего Я:
«Один раз у меня это было вечером на улице... Я не могла идти... Что-то во мне возникло: как солнце, и я мысленно кричала: Я... Я... Я!.. Я есть!... От того, что Я есть, что Я есть Я!» (МГ, с. 82–83).
Это — не «чувство личности», а чистое самобытие, «Я есть Я» в его непосредственной полноте. И именно это переживание вызывает у её собеседника одно-единственное слово,
«слаще которого нет ничего ни на небе, ни на земле: бессмертие» (МГ, с. 83).
Для Кати бессмертие — не идея и не надежда, а факт, данность, состояние бытия:
«Бессмертия – чтобы жить, жить где угодно, пусть в квазимирах забытых галактик, или в бредовых сочетаниях астральных пространств – но жить. А что значит – жить? Это значит ощущать себя, свое бытие.» (МГ, с. 35).
Она не нуждается в теле как в посреднике, она не любит плоть ради плоти — она любит «Я», которое пребывает в теле, но не исчерпывается им:
«Это мое самобытие. И это принадлежит духу, а не уму и этому миру, а потому вне изменений и разрушения» (МГ, с. 252).
Именно это постоянное пребывание в «Я» делает её непоколебимой даже перед лицом смерти. Смерть для неё не является окончанием жизни, это естественный процесс, к которому она относится с юмором:
«Да, да, мы будем жить!... И наплюём на собственный труп – с небес!» (МГ, с. 35). (Ср. «А знаете ли вы — что труп — это кал потустороннего... Мы, вернее то, что в нас вечно, уходим в другой мир, а труп остается здесь, как отброс... Смерть — это выделение кала, и калом становится наше тело...» (Ш, с. 238).
Смерть тела её не пугает, потому что тело — лишь временная оболочка, одна из возможных форм самобытия, не единственная и не самая существенная, а «Я» — вечная неуничтожимая реальность, полная и самодостаточная.
Это состояние находит своё философское обоснование в «Судьбе Бытия»:
«Я в целом — это единственная, сверхценная центр-реальность... Я-высшее обладает всей полнотой реальности и трансцендентности... Реальность, вызываемая этой формулой, т.е. чистое, равное Себе Я, находится по ту сторону мыслительных процессов, являясь, однако, их неподвижным Источником» (СБ, с. 54).
И состояние это — не требует ухода от мира, напротив, предполагает его полное принятие в любом виде: даже в «мерзости», даже в страдании, даже в смерти. Для Кати бытие само по себе — дар, и любая его форма достойна любви, потому что всё, что есть — проявление «Я».
Именно в этом — радикальное отличие Кати от Максима Радова, чья фигура в романе выступает антитезой её онтологической устойчивости. Если Катя живёт в вечности, то Максим умирает от мысли о смерти. Если она радуется самому факту существования, то он терзается невозможностью обрести бессмертие. Их судьбы — две стороны одной метафизической пропасти: жизнь как утверждение «Я» и жизнь как отчаяние перед «не-Я».
Максим Радов: антитеза бессмертия
Максим Радов — онтологический антипод Кати Корниловой, личность, раздавленная тяжестью собственного эго, не сумевшая преодолеть страх перед небытием.
Его трагедия начинается не с диагноза:
«Окончательный диагноз (какая-то редкая болезнь) практически не даёт никаких надежд на выздоровление» (МГ, с. 77).
Но физическая смерть — лишь повод. Подлинная катастрофа — метафизическая:
«Как почти все в неконформистском мире, он был верующий – но в его случае эта вера была неглубока, он не был ею пронизан до конца, ему не хватало практического духовного опыта, и он не превратил эту веру в постоянное бытие» (МГ, с. 78).
Для Корниловой «Я есть Я» — живая реальность, источник бессмертия. Для Радова «Я есть тело» — хрупкая, обречённая оболочка, единственная данность, единственная ценность, единственная боль. Бога для него просто не существует; он не может выйти за пределы отождествленности со своим телом. Его сознание закрыто страхом:
«...Такого сочетания перед лицом гибели не выдержит никто: безнадежное неверие и сильнейшая любовь к себе...» (МГ, с.86).
Когда Катя пытается утешить его, говоря о «блаженном самобытии», он не слышит. Для него нет «Я» вне тела, а значит, нет и бессмертия.
Здесь раскрывается один из главных тезисов романа: бессмертие — не объективная данность, не дар свыше и не свойство души по умолчанию. Бессмертие — это внутреннее состояние, результат практического духовного опыта, постоянного пребывания в Высшем «Я».
Радов не может «освоить» это состояние, потому что не верит в него как в реальность. Он любит лишь себя-физического, и потому перспектива любви к себе-запредельному становится источником ужаса.
Эта позиция находит своё философское обоснование в «Судьбе Бытия»:
«Таким образом, конечная цель человека — это приход к собственному, вечному, бессмертному Я, которое не имеет ничего общего с психикой, умом, индивидуальным Эго (ложным, временным я-паразитом) и пребывание в котором (в этом бессмертном Я) фактически означает конец всем ложным отождествлениям.» (СБ, с. 67).
Максим Радов — жертва «атеистического гроба», в котором выросло поколение 60-х. Он не отвергает Бога, он искренне не верит в возможность бытия “Я” вне тела. И в этом — его подлинная гибель: не физическая смерть, а метафизическое самоуничтожение.
В то время как Катя радуется самому факту самобытия, Максим страдает от невозможности представить себя вне смерти. Их диалог — не разговор двух людей, а столкновение двух онтологий: «Я есть Я» против «Я есть тело».
В финале романа Максима увозят к «мастеру смерти», который «пытается вырвать его из когтей, уготованных после смерти» (МГ, с. 255). Это — последняя попытка ввести его в то состояние, которым Катя обладает естественно. Но даже эта попытка — не гарантия успеха. Потому что бессмертие не может быть дано «извне» — его можно только обрести «изнутри».
Валентин Муромцев: бессмертие в творчестве
Муромцев — одна из центральных фигур романа. К своему творчеству он относится серьезно, уважительно, с трепетом, бережно хранит рукописи в своем потрепанном портфельчике, который носит с собой повсюду, даже в пивную:
«...Там ведь лежит не что-нибудь, а собственное бессмертие. Прямо рядом, у ног. И никакой алхимии. Хорошо, хоть и страшно: а вдруг потеряешь?» (МГ, с. 136).
Однако дело тут не в тщеславии. Муроцев — признанный лидер неконформистского кружка, человек, внутренне свободный от условностей эпохи, для которого литература — путь познания и служения. Он пишет не ради славы — он верит в пророческую силу своего слова:
«Только в глубинном и полном подполье, при занавешенных шторах, рождается свобода познания и независимость; и даже больше – в этой уникальной ситуации, со всем её бредом, отчаяньем и уходом от всего внешнего – может родиться действительно необычайная, невероятная литература, которой ещё никогда не было на земле» (МГ, с. 267).
Официальное признание его особо не заботит. Он однако опасается, что тексты его могут быть обнаружены «соответствующими органами», и потому прячет их в потайных “занырах” (вроде бывшей домработницы тёти Дуси, у доверенных друзей). Но не ради их возможной публикации — он хочет, чтобы его слово дошло до тех, кто способен его услышать.
Он в меру религиозен, не отрицает Абсолют; но ему сложно освоить бессмертие практически вне творческого акта. Его раздирают противоречия между «обычной жизнью» и жаждой Вечности:
«Но как же тогда то, что любишь на земле? Неужели бросить... Сердце его разрывалось между желанием Вечности и любовью...» (МГ, с. 273).
Интуитивно он понимает, что его бессмертие в творчестве. Как сказано в «Судьбе Бытия»:
«Творческая самореализация есть одно из высших проявлений Высшего “Я”... В творчестве человек прикасается к вечности не как к идее, а как к живой реальности» (СБ, с. 45).
Муромцев прикасается к этой реальности, но богореализации не достигает. Поэтому, когда Трепетов предлагает ему путь, выходящий за пределы Абсолюта, он понимает, что не готов. Для него бессмертие — это не «Я есть Я», а «Я пишу — значит, я есмь».
Он не отвергает путь, он ещё не созрел для него — как говорит сам Трепетов:
«Вале надо созреть. Для больших дел...» (МГ, с. 243).
Нина Сафронова: бессмертие как оккультная игра
Нина Сафронова — типичная оккультистка по складу души; для неё запредельное — не метафизическая абстракция, а практически обыденная реальность, населённая астральными сущностями, кармическими узами, перерождениями и тайными иерархиями.
Её работа в крематории — не причуда, а выбор: ей хочется разглядывать смерть вблизи, ибо посмертное существование для неё не миф, но реальность:
«Одна Ниночка Сафронова чего стоит. Нарочно устроилась работать в крематорий, хотя с дипломом. Диплом скрыла... Так нормальные люди и поступают. А она ведь все копит в себе, дрожит, думает, рефлексирует...» (МГ, с. 101).
Она не боится миров низшего астрала — напротив, предвкушает их:
«...И она поняла: вопреки всему, вопреки «тьме», жить можно. Пускай бесы, «дезинтеграция» после смерти, «пусть заочно за нас решило наше прошлое, пусть тюрьма», или «стон молитвы, с черным миром слитый», но все равно бытие – это дар и его надо разгадать; и даже тот мрак лучше, чем ординарное сознание – в котором вообще ничего нет» (МГ, с. 167).
Она не достигла богореализации, внешний мир остается для нее безусловно объективным, хотя и более многообразным, чем у «обычных» людей. Её бессмертие — чреда бесконечных трансмиграций души. Она не стремится к выходу из круга, она хочет его освоить, играть в нём, быть в курсе всех правил.
Интуитивно Нина чувствует, что Трепетов стремится за пределы этой игры:
«Последняя тайна... перечеркивает всё, что известно людям о Боге и мире... по ту сторону всякого эзотеризма, высшей йоги, реализации Абсолюта или Нирваны...» (МГ, с. 232).
Но сама она не готова выйти за этот предел. Для неё Бездна — «немыслимый ужас»:
«Не может быть такого ужаса, такого абсурда, как Бездна вне Абсолюта...» (МГ, с. 232).
Бессмертие для Нины — это просто способ развлечься, ей представляется, что на том свете весело:
«Эх, погулять бы по этим кругам! С песнею да с гитарою. Пошевелить наполеончиков, чингиз-ханов, шепнуть кое-что на ушко Главному: Хозяину земли этой... Эх!» (МГ, с. 214).
Эта позиция находит своё философское обоснование в «Судьбе Бытия»:
«Тот, кто не обладает высшим Я, не может превзойти страдание и смерть... Он остаётся в круге тварного существования» (СБ, с. 77).
Нина любит Сашу, она готова даже рисковать, жертвовать собой ради него, но она не может идти за ним в Бездну. Как и остальные герои романа, к такому исходу она просто не готова. Её бессмертие — оккультное, земное, ироничное — это просто игра.
Несостоявшиеся попутчики
Закаулов, Берков, Сабуров — талантливые, глубоко чувствующие люди, каждый со своей внутренней драмой, своим видением мира. Они — поэты, философы, интеллектуалы московского подполья, для которых литература и метафизика — часть жизни.
Но, несмотря на всё это, они остаются за порогом «религии Я». Их интерес к Трепетову — не жажда богореализации, а любопытство, кураж, желание сыграть роль в чужой пьесе. Они остаются в плену Майи — иллюзорного мира, который они принимают за реальность.
«Работа майи заключается в том, чтобы сделать реальное — нереальным, а нереальное — реальным, без чего мир не мог бы существовать» (СБ, с. 76).
Именно таковы эти герои: они верят в реальность своих переживаний, но не видят реальности за ними.
Леха Закаулов называет себя «сюрреалистом, черт побери, гулякой», и его душа рвётся на части от любви (МГ, с. 15). Он плачет слезами просветления, когда слышит о Боге, но не может удержаться от хохота, когда дело доходит до сути:
«Шарлатан он чертов, и больше никто!.. От его лица веет холодом ада» (МГ, с. 102).
Метафизика для него — спектакль, а Трепетов — просто легендарная личность, которую хочется увидеть, потрогать, «посидеть» вместе с ним. Он говорит:
«Люблю послать все к черту и броситься с вышки вглубь...» (МГ, с. 24).
Но это — не прыжок к Бездне, а эпатаж. Он не готов идти «в ночь»:
«Мне бы улететь на Луну, а не лезть в ворота жизни и смерти» (МГ, с. 17).
Борис Берков — философ, мыслитель, человек, который задаёт умные вопросы. Он понимает, что Трепетов — «из самых скрытых слоев московского подполья», и что «глубже этого слоя уже ничего нет» (МГ, с. 16) и ему хочется приобщиться к этой глубине.
Но его ум озабочен мирскими заботами, приглашение Трепетова отправиться «в ночь» он принять не готов:
«Бр, какие страшные слова...» (МГ, с. 219).
Для него метафизика — интеллектуальная забава, предмет исследования, а не состояние бытия. Он может задумываться о пути, но не может пойти им.
Олег Сабуров — поэт, избранник муз, человек, который пишет о Дьяволе «красочно» (МГ, с. 235). Он понимает, что «Дух любит парадоксы», и готов сыграть:
«Почему бы и нет, почему бы и не здесь?» (МГ, с. 44).
Идея последовать за Трепетовых поначалу интригует его, он думает, что сможет там найти что-то важное для себя, хотя это и страшно:
«Ты готов идти? – Да, – ответил Олег, и помолчал. – Я слышу зов, страшный зов» (МГ, с. 105).
Но в итоге и он оказывается не у дел. Он слишком привязан к этому миру, его интерес к Трепетову — поверхностен, он ищет впечатлений, но не готов к подлинному метафизическому риску.
В «Судьбе Бытия» все подобные ситуации проясняются убедительно и однозначно:
«Все это превращение практически означает, что в мире, в Космосе Абсолютное Я, Бог в Самом Себе, становится как бы неуловимым ("последним")... метафизически иллюзорное, что подвержено гибели и трансформациям, приобретает ложный статус "реального", а то, что действительно вечно (Абсолютное Я, Бог в Самом Себе), — становится как бы "последним", оттесненным на задний план (в представлении участников Комедии)» (СБ, с. 77).
«Несостоявшиеся попутчики» принимают Эго за «Я», тело за личность, мысли за реальность. Для них «я» — это творчество, слава, интеллектуальные игры, а не само бытие. Именно поэтому они не могут последовать за Трепетовым. Как пишет Мамлеев:
«Следовательно, страдания тех, кто не вышел из замкнутого кольца воплощений, вполне реальны для них (это к тому же придает проблеме страдания и зла всегда актуальный характер)» (СБ, с. 85).
Они не обладают Высшим «Я» — они живут в мире образов, эмоций, идей. Их бессмертие — возможность сыграть роль в чужой пьесе. Впрочем они не враги пути, они — просто зрители. И в этом их судьба: быть свидетелями того, чего сами они совершить не могут.
Кирилл Леснев: ортодокс Веданты
Кирилл Леснев — не просто «русский брамин», как его называют в романе, а последовательный носитель традиционной Веданты, чей путь заканчивается реализацией Абсолюта. Даже намек на попутку выйти за его пределы для Леснева неприемлем.
Его «союз русских мудрецов» — это строгая школа, на Индия смотрят как на непререкаемый духовный первоисточник, где практика важнее теории, а Богореализация — цель:
«Первый Брамин Республики, так сказать. Говорят, он получил инициацию от одного заехавшего сюда с этой целью весьма «крепкого» индуса» (МГ, с. 254).
Леснев отличается от Трепетова радикально: если Саша ищет то, что лежит за Абсолютом, то Кирилл останавливается на Абсолюте как конечной реальности. Для него путь завершается «дорогой Солнца», а не в Бездне. В этом смысле он ближе и понятнее:
«Куда все-таки он нас закинет, – раздумывал Олег. – Не сбежать ли лучше к Лесневу? Там по крайней мере все ясно: Индия, Богореализация, практика. Обучает высшей медитации» (МГ, с. 110).
И когда Олег и Борис приходят к нему за советом, Леснев чётко обозначает границы допустимого:
«Лицо Леснева внезапно исказилось, как только он прочел эти слова [Трепетова]. Трудно было понять, что выразилось на его лице в это мгновение, но Олегу показалось, что как будто пронеслась черная молния и ушла внутрь» (МГ, с. 208).
«Опасно даже в теории? – Даже теоретически. Даже намеки. Но как я понял, не до этого ещё не дошло» (МГ, с. 208).
Для Леснева Трепетов — не пророк, а опасный соблазнитель, чей путь ведёт к саморазрушению:
«О Саше забудьте, – еле уловимая улыбка тронула губы Кирилла. – Его как бы нет» (МГ, с. 269).
Его позиция находит своё философское обоснование в «Судьбе Бытия»:
«Брахман (Brahman) — начало всех начал. Самость, Бог в Самом Себе, Абсолютное Я — имеет в Себе не только неограниченные возможности бытия (которые могут проявиться как вселенные), но и включает те аспекты бытия, которые в принципе не могут проявиться, а также нечто, выходящее за сферу бытия вообще» (СБ, с. 41).
Леснев принимает эту «сферу бытия» как предел, за которым ничего нет. Он не отрицает Бездну, но не видит в ней смысла — для него Абсолют — конец пути, а не его начало.
Именно поэтому он не может понять Трепетова, который идёт дальше, к «последней доктрине», к «Бездне, которая есть Анти-реальность».
Для Леснева бессмертие — не игра в трансмиграции, как для Нины, и не выход в Ничто, как для Трепетова. Оно — реализация Абсолюта, дорога Солнца, покой в Боге. В этом его позицию можно соотнести с Катей корниловой с одной лишь разницей: он получает эти знания в процессе инициации в Традицию, Катя же переживает это под влиянием внутренних процессов, приходит к этому интуитивно, независимо ни от кого.
Образ Кирилла — яркий пример метафизического ортодокса, который свято чтит традицию, и не стремится ни в малейшей мере выходить за её пределы.
Александр Трепетов: тот, кто «уходит в ночь»
Александр Трепетов появляется в «Московском гамбите» как человек, уставший от вечности. Искушённый мистик, который прошёл сложнейшией испытания и искушения, практически освоил непостижимое, он теперь ищет путь дальше. Для него в бытии не осталось тайн, все двери открыты, но за ними — Бездна внереальности, того, чего нет.
Его первое появление в романе — почти бытовое:
«И вошёл Саша Трепетов: человек тридцати с лишним лет… Но вскоре это впечатление от его лица рассеялось. И увиделось иное: что-то очень далекое, еле уловимое, но присутствующее…» (МГ, с. 20).
Он не вещает, не проповедует. Он проверяет людей, ищет равных себе. Собрав вокруг себя представителей московского андеграунда 60–70-х — поэтов, философов, мистиков — он предлагет им странное задание, объяснить, как они понимают его метафизичекское кредо:
«Я, обретший бессмертие, ухожу в ночь» (МГ, с. 218).
Таким образом он пытается обнаружить тех, кто способен понять, что само по себе бессмертие не имеет смысла, если человек не способен бросить вызов самому себе — бессмертному.
Эта фраза — не банальный поэтический образ, а онтологический вызов; не бунт, а парадокс. Трепетов не отрицает Абсолют — он стремится за Его пределы:
«Человек может быть трансцендентен самому себе и даже трансцендентен по отношению к Абсолюту, как это ни парадоксально звучит» (МГ, с. 217).
Это утверждение находит своё философское обоснование в «Судьбе Бытия»:
«Если высшая форма самосоотнесённости и бытия может быть выражена формулой Я = Я, то в Бездне можно себе представить формулу Я = Я ≠ Я… то, что находится по другую сторону Я, не есть само Я… а есть то, чего нет» (СБ, с. 95).
Для Трепетова это — не теория, а практическая задача. Какой-то своей сверхинтуицией он предугадывает немыслимое и непостижимое: путь в Бездну — не уничтожение, а «иное начало» (СБ, с. 239).
Но попутчиков он не находит. Никто не готов идти с ним. И это его не обескураживает. Он будто был готов к этому; принимает одиночество как логическое завершение:
«Все кончено, продолжения не будет, занавес не поднимется... Конец...» (МГ, с. 241).
Его путь — это уход в немылсимое, то, чего нет. Он не умирает, он входит в Бездну и становится «существом Последней доктрины»:
«Это “существо” одновременно включает в себя и абсолютную полноту и абсолютную лишенность… Оно может стать богом-безумцем… богом, сошедшим с ума — ибо это Бог, уходящий в бесконечную Ночь» (СБ, с. 97).
В мировой литературе нет аналогов Трепетову. Он — не Фауст, ибо не торгуется с дьяволом; не Иван Карамазов, ибо не ненавидит Бога. Он — человек, который всего достиг — и не может останавлиться на достигнутом; метафизический первопроходец, идущий туда, куда нет пути, постигающий то, чего нет и не может быть, готовый потерять себя навсегда — ради свободы быть собой.
Таким образом, Трепетов — не литературный персонаж в обычном смысле, а онтологическая фигура, воплощение самого вопроса о «том, чего нет». Его уникальность в том, что он не ищет спасения в вечности, а жертвует им ради свободы. Он не утверждает “Я”, а выходит за его пределы. Он не боится Бездны, он призывает её.
И в этом кроется суть понятия «гамбит» в названии романа: Трепетов готов пожертвовать самого себя, свое бессмертие, чтобы обрести преимущество перед бездной.
Тихон Федорович: тайный проводник последней доктрины
В «Московском гамбите» есть персонаж, который так и не появляется на страницах романа, но чье присутствие ощущается в каждом его слове. Этот «тайный человек» по сути и является главным героем романа, персонификацией самой Последней доктрины.
Зовут его — Тихон Федорович, родился он в городе Пензе. Но это не более чем маска, за которой скрывается то, чего нет. Как верно замечает Саша Трепетов:
«В действительности человек этот связан с «последней тайной». Вы можете понимать это в меру собственной интуиции. Как угодно: последняя тайна Бога или Абсолюта; нечто, нигде не раскрытое, ни в каком Священном писании, ни в каком эзотерическом учении» (МГ, с. 233).
Тихон Федорович — это человек Бездны. Его сила не в том, что он делает, а в том, кем он не является:
«...Он обладает какой-то огромной силой, и главное, совершенно необычной, не встречающейся почти в истории людей. Как тебе сказать? Необычной в смысле ее направленности и сути» (МГ, с. 233).
Эта «ненаправленность» и «непонятная суть» — ключ к пониманию: Тихон Федорович представляет собой Бездну вне Абсолюта, «Анти-реальность», «то, чего нет», как об этом пишет Мамлеев в «Судьбе Бытия»:
«Остается теперь сказать несколько слов о том парадоксальном существе, которое вступает в «контакт» с Бездной, т. е. о существе Последней доктрины (которое может быть в некоторых случаях «человеком» — конечно, только с внешней стороны). Это «существо» одновременно включает в себя и абсолютную полноту и абсолютную лишенность...» (СБ, с. 98).
Именно поэтому Тихон Федорович не может появиться в романе — он не образ субъект, а образ недостижимости. Его отсутствие — не недостаток повествования, а онтологическая необходимость: как может быть изображен тот, кто за пределами изображения?
Нина Сафронова задает вопрос, который в романе становится ключевым для понимания всей доктрины:
«– Как твой тайный человек, Сашенька? – шептала она ему потом. – Я знаю, я слышала… Зачем он здесь на земле? Если он всемогущ, и может жить, где хочет, то что ему делать тут, в этом темном подвале, зачем он воплотился среди людей?» (МГ, с. 235).
Этот вопрос не требует ответа — он непостижим по своей сути. Тихон Федорович не «воплощается» среди людей — он сам является существом Бездны, совмещающим в себе Абсолют и Бездну, обладающим принципиально иным онтологическим статусом. Как пишет Мамлеев в «Судьбе Бытия»:
«Существо Бездны, таким образом, — благодаря новой инициации — начинает видеть реальность как уже радикально преобразованную. Мир приобретает совсем иной смысл, точнее за-смысл. Он больше не «иллюзия» (от которой надо проснуться), а «намек» на то, что выходит за пределы Реальности, за пределы Абсолюта» (СБ, с. 95).
Тихон Федорович — это Бездны, которое совмещает в себе Абсолют и Бездну. Его отсутствие в романе — не пустота, а онтологический принцип, символ перехода от «Я = Я» к «Я = Я ≠ Я». Трепетов следует за ним не потому, что Тихон Федорович что-то ему обещает или куда-то зовёт, а потому что он служит своего рода маяком Бездны, указывающим на принципиально иной онтологический статус человека.
И Трепетов стремится обрести этот статус. Он стремится стать человеком Бездны, бросившим вызов Абсолюту.
Их совместный поиск людей в эзотерических кругах — не набор в очередную секту; можно сказать, что это «веление» самого Абсолюта, который «ищет» контакта с Бездной. Как пишет Мамлеев:
«Следовательно, необходимо как бы оторваться от своей абсолютной вечной первоосновы, сначала, конечно, реализовав ее. И первый этап этого отрыва является возвращением из сферы реализованного Абсолюта — в мир на Периферию Бытия, ибо именно там, а не в торжествующей полноте Абсолюта возможно найти «дыры» в истинную Тьму, в Бездну, лежащую по ту сторону Абсолюта. Таким образом, этим определяется высший смысл бытия нашего огражденного мира и высший смысл творения мира: ибо не в ослепляющем свете Абсолюта, а именно в мире страданий и негаций возможен прорыв в Бездну» (СБ, с. 96).
Именно в этом контакте происходит «развитие» самого Абсолюта: благодаря Бездне внебытия Абсолют перестает быть замкнутой изолированной системой и становится открытой системой, способной к трансфигурации.
В этом — тайна Тихона Федоровича: он не существует как отдельный субъект, но служит проводником к онтологическому переходу, где Абсолют и Бездна перестают быть противоположностями и становятся взаимодополняющими аспектами единой Последней доктрины.
Заключение
В романе «Московский гамбит» Юрий Малмеев не просто продолжает метафизический поиск, начатый в «Шатунах», но совершает радикальный прорыв за пределы собственной доктрины. Если проблематика первого романа сфокусирована на преодолении трансцендентности Бога через обретение Высшего Я, то в "Гамбите" автор ставит вопрос, который до него вообще никто не задавал: что происходит после достижения бессмертия? Эта работа не отрицает "Я = Я" как формулу вечного бытия, но выносит ее за скобки, открывая пространство для вопроса, который сам по себе разрушает границы мыслимого.
Роман демонстрирует спектр возможных стратегий достижения бессмертия — от оккультных практик до творческого самовыражения, от социальных утопий до адвайты-веданты. Однако истинная революция произведения заключается не в этом каталоге духовных путей, а в том, что все они представлены как необходимые, но недостаточные этапы. Трепетов, чей путь становится центральной осью романа, не отвергает Абсолют; он видит его реализации лишь промежуточный пункт на пути к тому, что находится по ту сторону самой вечности. Его уход «в ночь» — не отречение от бессмертия, а его логическое продолжение.
Такой подход Мамлеева не имеет аналогов в мировой литературе и философии, где бессмертие традиционно рассматривается либо как конечная цель, либо как иллюзия. В «Московском гамбите» же бессмертие становится не точкой прибытия, а стартовой площадкой для прыжка в «то, чего нет». Этот прорыв за пределы Абсолюта, эта смелость мысли, способной задать вопрос о том, что лежит за гранью вечности, делает роман не просто продолжением "Шатунов", но их метафизическим преодолением, открывающим новые горизонты для понимания человеческого бытия в его самом радикальном измерении.