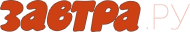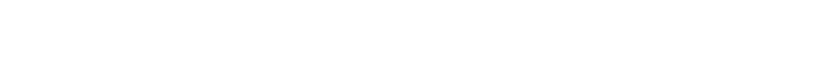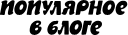Пушкин родился 6 июня (26 мая по старому стилю) 1799 года, в Москве, в последний год уходящего XVIII века. Последнее весьма символично. Пушкин — человек явно не XIX-го, и уж тем более не XX века, в гораздо большей степени он человек именно XVIII века, как бы замыкающий собой блестящий век Петровской империи.
В своё время большевики пытались лепить из Пушкина чуть ли не некую поэтическую «Аврору», указующую путь в светлое революционное будущее. На самом же деле всем своим существом Пушкин устремлен не в будущее, а в прошлое. Весь так называемый «прогресс» и «демократию» — этих священных коров Нового времени — Пушкин искренне ненавидит, доказательство чему — множество едких высказываний (см., например, его ядовитейшие замечания об американской демократии в статье «Джон Теннер»).
Будущее его скорее пугает, всюду он видит приметы конца. Что такое его «Маленькие трагедии» как не блестяще поставленный диагноз миру больного заката Европы? А что такое его «Борис Годунов» как не величественное полотно, описывающее конец мира традиции, на смену которому приходит мир-самозванец, мир, сорванный со всех оснований и летящий в бездну?
Кстати, ещё один символ, любимый советскими пушкиноведами: история про то, как няня, гуляя с маленьким полутрагодовалым Александром по петербургскому Юсупову саду, встретилась с императором Павлом, сделавшим ей замечание за неснятый с ребенка картуз. Большевики любили эту байку — нравоучительную историю о ранней пушкинской оппозиции царизму. Да и сам Пушкин рассказывал её со смехом: «Видел я трёх царей, первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку…» и т д. На самом же деле этот анекдот, конечно же — о встрече с Большой Историей. Это её благословение на челе маленького гения, и то, что эта первая встреча именно с Павлом — царём-рыцарем, уходящей натурой XVIII века, — тоже, конечно символ. «Сей остальной из стаи славной Екатерининских орлов», — это можно сказать и о нём самом, о Пушкине, справедливо заметил Г. Федотов («Певец Империи и Свободы»).
Если как человек Пушкин принадлежит прошлому, то как гений — он воспаряет над временем, обозревая мир от самого начала до самого конца истории. И чем старше становится, чем глубже его философия, тем сознательнее он погружается в пласты истории, и к тем большим обобщениям приходит.
Его последний философский «каменноостровский цикл», написанный летом 1836 г., — это не только о судьбе человека, взятой в абсолютных онтологических категориях, это — о судьбах мира, который завершает свои земные пути.
«История древняя есть история Египта, Персии, Греции, Рима. История новейшая есть история христианства», — заметил как-то Пушкин. Но если мир дошёл до того, что сбрасывает с себя христианство, в «священной стихии» которого он когда-то «исчез и обновился», то… что теперь его может ждать? На этот вопрос Пушкина-историософа следует ответ Пушкина-пророка: катастрофа. Вот как в последнем его посвящении Лицею: «…Металися смущённые народы; И высились и падали цари; И кровь людей то Славы, то Свободы, То Гордости багрила алтари…».
Правда, этот взгляд в эсхатологическое будущее почти всегда пресекается. Как пророк, Пушкин видит впереди апокалиптические всполохи, но как реалист — не позволяет себе об этом говорить. Это договорят Гоголь и Достоевский. Сам же Пушкин скроет свою метафизическую тревогу в чудесных сказках, полных эсхатологических намёков, особенно грозных — в «Сказке о золотом петушке».
Итак, Пушкин — человек насквозь имперский, насквозь укоренённый в той ещё старой, докапиталистической, додемократической России. Последний традиционалист, последний гений уходящей христианской Европы, запечатлевший этот, ещё кажущийся недвижным, но уже видимо обрушающийся мир. Таково его место среди равных ему по мощи гениев: Гомера, Вергилия, Данте, да, пожалуй, ещё Шекспира и Гёте. Он и здесь последний, замыкающий ряд гениальных поэтов-философов, пророков и историософов.
Что же до взрывного, фонтанирующего либертринажа пушкинской юности, то обманывать нас он не должен. Вольнодумством было полно тогда всё русское общество. Всё кругом масонствовало, всё зачитывалось Вольтером. И семья Пушкиных не была исключением. Отец Пушкина, Сергей Львович, тоже был, конечно, масоном, состоя в ложе «Северного щита». В его библиотеке Вольтер, Гельвеций, Руссо и Парни соседствовали с переводами греков и римлян — также вполне в духе времени. Дядя Пушкина Василий Львович и сам был известный стихотворец. Да и весь круг общения семьи соответствовал культурному уровню эпохи: поэты Ив. Козлов, Ив. Дмитриев, вдова Хераскова с её литературными вечерами, Жуковский, наконец, Карамзин, который бывал у Пушкиных дома, и которого запомнил и выделил из всех гостей шестилетний Александр. И понятно почему: человек-ровня, близкий духом.
Сами же Пушкины были людьми легкомысленными. В семье царил дух вольтерьянства, говорили цитатами из «Орлеанской девственницы», а стихи пописывали даже кухарки. Одним словом, всё, что только могло дать Пушкину его время, оно выдало ему в самом нежном возрасте и полным шипящим кубком.
Интересно, что сам маленький Пушкин был толстым, рассеянным, молчаливым увальнем, неизменно раздражавшим родителей. Он мог, например, гуляя, отстать от них, усевшись посреди дороги, погрузившись в мечты, пока те не спохватывались и не бросались его искать. Так, до семи лет он, точно губка, впитывал в себя все впечатления жизни, пока вдруг в одночасье не проснулся. И сразу стал похож на того Пушкина, которого мы знаем: радостная дерзость духа, прожигающая любую свинцовую тяжесть небытия...
Справедливо, что главные темы Пушкина — с младенчества и до смерти — личность и свобода, или — жизнь личности во всех возможных проявлениях её свободы. Он как будто открывает всё бытие заново, с чистой страницы, с самого начала. Вас. Розанов кажется первым сравнил Пушкина с Адамом, гуляющим по райскому саду и дающим имена всем вещам этого мира. Блестящая метафора! Это и было, наверное, главным делом Пушкина: дать всем вещам нового мира их новые, но в то же время их настоящие, главные, первозданные имена. Пушкин построил нам Дом, построил нам Космос. Такой, в котором русскому человеку было бы свободно и уютно существовать: в новом мире, но по вечным, неизменным божьим законам.
Кем только не называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Всё это мимо-мимо. Пушкин был, прежде всего Русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом, тревожном мире. Нашим Колумбом, если угодно.
И, конечно, масонское вольномыслие отцовской библиотеки было только одной гранью влияний. С другой стороны была бабушка, Марья Алексеевна Ганнибал (урождённая Пушкина), безукоризненная русская речь и широкий ум которой сполна проявляются в её письмах. Между Александром и родителями всегда оставались холод и отчуждение. Родители мальчика не любили. Отец вообще был равнодушен к детям, мать же, Надежда Осиповна, невзлюбила своего старшего за то, что тот оказался похож на её отца, Осипа Ганнибала. Который фактически бросил свою жену, бабушку Пушкина, с маленькой дочерью, его будущей матерью, и женился на другой. В общем, нелюбовь к отцу передалась к сыну, уродившимся смуглым арапчонком.
А вот бабушка, Марья Алексеевна, сделала всё, чтобы эту несправедливость исправить. Она заменила Александру и мать, и отца, и весь недостаток родительской любви. Она научила его грамоте, научила его мыслить и говорить по-русски, она открыла ему мир русской сказки, она была его проводником в чудесное. Она фактически взяла его на воспитание и в своем имении в Захарово и познакомила его с настоящей Русью. Прежде всего, разогнав всех французских гувернёров и научив его читать и писать по-русски. Она же приставила к нему няньку Арину Родионовну и «дядьку» Никиту Козлову. Захарово Пушкин будет вспоминать как счастливейшее время своей жизни. Вот это место и эти люди и станут для него настоящей Русью. «Дядька» же Никита Козлов будет с ним до конца: это он вынесет раненого Пушкина из кареты в квартиру, и будет провожать его гроб в Святогорский монастырь. Это про этих людей Гоголь скажет, что, благодаря им развилось в Пушкине понимание «простого величия простых людей».
Вот таким Пушкин и вышел в жизнь. Сказки Марьи Алексеевны, круг большой русской культуры, который и был его настоящим домашним кругом: «Бедная Лиза» Карамзина, баллады Жуковского, стихи Дмитриева, «Илиада» и «Одиссея» в переводах Битобе, ну и, конечно, насмешники-французы… К 11 годам это был человек, для которого мировая культура была родным домом, и который превосходил своим развитием сверстников на пару голов точно.
Иван Ильин блестяще заметил: задание Пушкина заключалось в том числе и в том, чтобы впитать не только всю мудрость, но и привить себе все болезни своего времени: Пушкин приходит, чтобы «принять в себя все отрицательные черты… своей эпохи, все опасности и соблазны, … чтобы одолеть их и показать… как их можно и должно побеждать... Свобода дана ему … что бы отринув все прежние пути, найти свой собственный верный путь и указать его другим (Ив. Ильин, «Александр Пушкин как путеводная звезда русской культуры»). То есть, да, в каком-то смысле, если и не «Аврора», то, несомненно, «Путь к очевидности» (как называется одна из книг Ив. Ильина).
В заключение необходимо сказать вот что. Исследуя всю свою жизнь темы личности и свободы, судьбы человека в большой истории, Пушкин нашёл блестящие решения теорем, найти которые удалось мало кому из великих философов. Но и для нас Пушкин всё ещё остается великой тайной… Быть может, это и есть теперь уже наше задание: разгадывать тайну Пушкина как данного нам великого чуда и великого идеала? Быть может, в том и заключается царский путь русской жизни, русской культуры и русской истории?
Ведь если Человек (как он задуман Богом) и правда есть то пограничное существо, стоящее на границе материального и духовного, в которое, как говорили древние, «как в горнило стекается всё мироздание без остатка», то гений народа (подобный гению Вергилия, Данте, Шекспира, Гёте, Пушкина) — не просто некая мутация, отклонение от нормы, как мыслит вульгарное сознание, гений и есть сама норма, тот самый максимальный «утысячерённый человек» (Цветаева), тот первобытный Адам, нарекающий имена всем тварям и сущностям Божьего мира. Всякая развитая культура порождает гения как свой апофеоз, как своё разрешение и как идеал, к которому данная культура стремится. И если Пушкин есть порождение всей тысячелетней культуры Руси, её могучего молчаливого духа, её неторопливо разворачивающейся, несуетной истории, её окутанной (и по сей ещё день) мраком неведения тайны, то… Не значит ли это, что в Пушкине дана нам и наша вечная путеводная звезда? Которую быть может мы и никогда не будем способны познать и постигнуть, но к познанию которой должны во всяком случае стремиться, на камертон которой должны настраивать свои души, сверять с ней, как с картой звёздного неба, свои земные пути.
Увы, обозревая сегодняшнее мельтешение жизни нашей культуры, мы почти не видим того, что резонировало бы Пушкину. И значит то великое исправление имен (и то великое прояснение сознания), в которых только и может быть заключена настоящая наша победа – где-то ещё впереди. Но главное — нам известно её заветное имя, данное нам раз и навсегда.
Илл. Портрет Александра Пушкина в детстве(1802), художник Ксавье де Местр