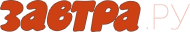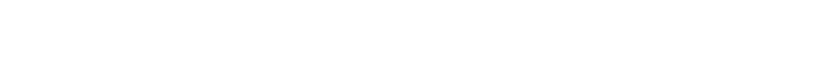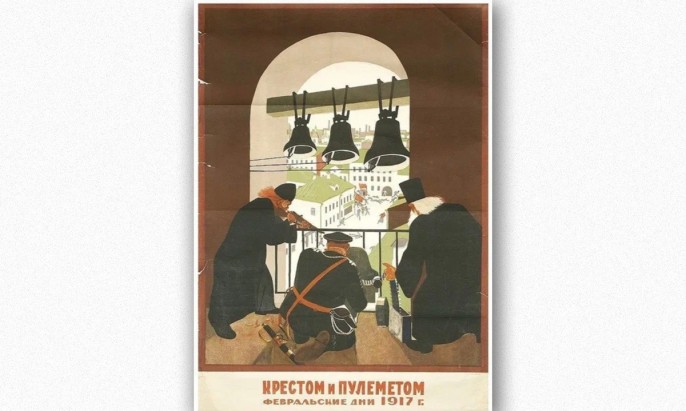Побывала на концерте в «Зарядье». Знакомая из Чехии радостью поделилась: «Иларион-то у нас теперь! Собор великолепный! Мы уже побывали у него».
Иларион – это митрополит Иларион (Алфеев). Опальный. Накануне Нового года был освобожден от управления Будапештско-Венгерской епархии, почислен на покой. Среди причин немилости Синод Русской православной церкви обратил внимание на несоответствие быта митрополита «образу монаха и священнослужителя», на неподобающий «характер отношений» с окружением. Новое место служения – храм Святых первоверховных апостолов Петра и Павла в курортных Карловых-Варах. У подножья гор, в одном из самых красивых мест города, - продолжала живописать знакомая. А меня как молнией пробило.
Вспомнила случай, невольным свидетелем которого оказалась.
Это был 2017 год. Концерт в Большом зале консерватории, в зрительном зале – волею случая мои места оказались в одном ряду – посол США Джон Теффт (как раз завершил работу в Москве, на следующий день улетит на родину) с супругой. В «узких» кругах к тому времени отлично знали: посол – бонвиван, ценитель российской культуры, меломан, вечера музыки устраивает прямо в своей резиденции.
И вот наступил антракт.
Кто-то неспешно покидал зрительный зал, кто-то, как и я, оставался в своих креслах. Вдруг рядом с Послом нарисовался круг из уже почти позабытых политических лиц и персонажей светской тусовки с Вячеславом Костиковым, бывшим пресс-секретарем Ельцина, во главе. Вдруг круг разомкнулся. Народ расступился, пропуская о. Илариона (Алфеева) – тогда ещё митрополита Волоколамского. В монашеском клобуке, в красивой черной мантии из шелка он чинно подошел к «принимающему». Подобострастно склонился, передавая компакт-диски, по всей видимости, с записью своих сочинений, самое известное из которых – «Страсти по Матфею» – как мировая премьера уже прозвучало в Москве и Ватикане.
Не испытать «испанский стыд» в эти минуты было решительно невозможно. Вот так публично, на глазах у всех чернец, высший иерарх Русской Православной церкви челом бьёт послу США, «ястребу» до мозга костей, за плечами которого организация цветных революций в Тбилиси и в Киеве? Что-то с народной дипломатией, с подходом вежливости о. Илариона (Алфеева) к господину Теффту не билось, не вязалось, возможно, с надуманными мною, горделиво-возвышенными представлениями о русском духовенстве.
Но странно.
Как будто бы нечто подобное, смутный образ «картинки» я уже где-то встречала-видела? Вопрос смущал на протяжении всего второго отделения.
По возвращению домой всё-таки нашла эту книгу – «”Воспоминания” Георгия Шавельского, последнего протопресвитера русской армии и флота» (Москва, Крутицкое Патриаршее подворье. 1996 год). Протопресвитер, замечу, – высшее звание, доступное для белого духовенства. Соответствует архиепископу в духовном мире, генерал-лейтенанту – в военном. Влияние протопресвитера простиралось на всю Россию. Он имел личные доклады у Государя. Георгий Шавельский был известен как личность выдающаяся. Видный церковно-общественный деятель, блистательный организатор, талантливый педагог, независим в суждениях.
5 октября 1913 года в Лейпциге состоялось знаменательное событие – освещение храма в память русских воинов, погибших в Битве народа 5 октября 1813 года. Чин освещения совершал протопресвитер Георгий Шавельский, ему сослуживали клирик Успенского собора Московского Кремля великий архидиакон Константин Розов, многочисленное духовенство, пел Московской Синодальный хор, регентом которого впервые выступил юный Николай Голованов – будущий главный дирижер Большого театра, «воин русской оперы» (главный дирижер Синодального хора Николай Данилин накануне отъезда внезапно заболел). Присутствовали военные делегации стран-союзниц, монаршие особы: германский император и король Пруссии Вильгельм II, австрийский эрцгерцог Франц-Фердинанд, шведский принц… «и ещё 33 высочайших особы при многолюдной свите». Россию представлял великий князь Кирилл Владимирович. Богослужение произвело впечатление на иностранцев. Очаровало. «Вильгельм, - рассказывали потом, - в течение этого дня несколько раз начинал разговор о русской церкви, о Розове и хоре».
Уже будучи в эмиграции, в Болгарии, последний протопресвитер русской армии и флота Георгий Шавельский вспомнит торжество в Лейпциге, в книге посвятит ему отдельную главу. И есть здесь пассажи, которые своей тональностью, парадоксальностью мысли в очередной раз немало поразили меня. Такие, как пример, пассажи:
«У меня замерло сердце, - цитирую, - вот она, Германия! Стройная, сплоченная, дисциплинированная, патриотическая! Когда национальный праздник, то тут все, как солдаты; у всех одна идея, одна мысль, одна цель, и всюду стройность и порядок. А у нас всё говорят о борьбе с нею… Трудно нам, разрозненным, распропагандированным тягаться с нею… Эта мысль всё росла у меня по мере того, как я всматривался в дальнейший ход торжества».
И ещё:
«Вильгельм начал обходить присутствующих. Я не спускал с него глаз. Как сейчас, помню его пристальный, испытывающий, как бы пронизывающий взгляд. Он как будто впивался в каждого, стараясь выпытать, выжать от него все, что можно. Решительностью, смелостью, задором, даже, пожалуй, надменностью и дерзостью веяло от него. Видно было, что этот человек всё хочет знать, всем в свое время воспользоваться и всё крепко держать в своей руке. Невольно вспомнился наш Государь – робкий, стесняющийся…»
Думаю, можно и не продолжать.
Как-то так получается, что в богоспасаемой стране нашей, какие бы погоды ни стояли на дворе, но даже на самом пике патриотических настроений, даже среди лиц правой веры марш – почему-то влево. Почему?