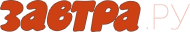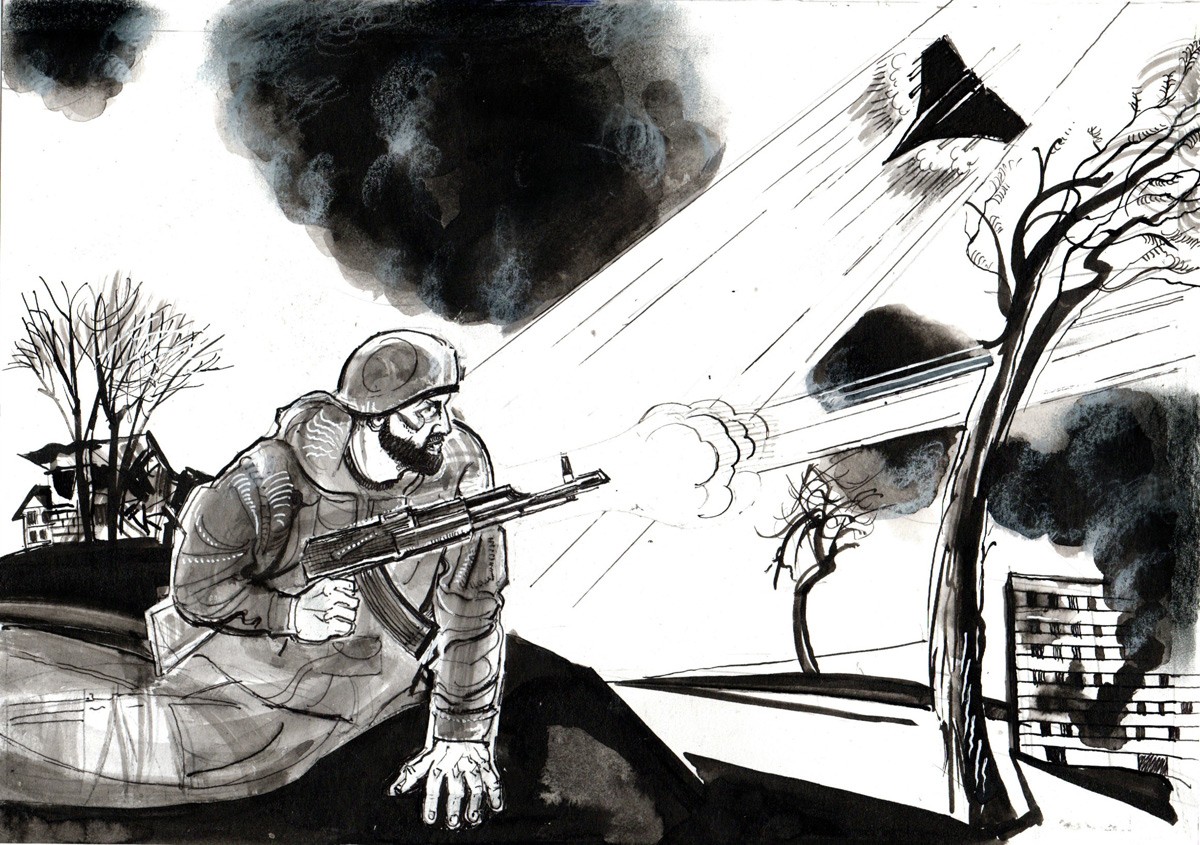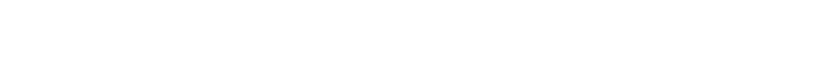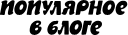Дружили по жизни, неистовствовали, бражничали, хмельно хулиганить могли: столь же размашисты и неистовы в стихах были…
Павел Васильев, играя цветностью мира, словно исследуя самые сущности цветов, существующих в спектре, живописал всё:
Еще ты вспоминаешь жаркий день,
Зарей малины крытый, шубой лисьей,
И на песке дорожном видишь тень
От дуг, от вил, от птичьих коромысел.
Еще остался легкий холодок,
Еще дымок витает над поляной,
Дубы и грозы валит август с ног,
И каждый куст в бараний крутит рог,
И под гармонь тоскует бабой пьяной.
Пряный, словно и хмельной стих, предельной густоты: пенится она, завораживая…
Более сквозные, с меньшим избытком, но – лирически-вибрирующие работали мускульно стихи Бориса Корнилова:
Без тоски, без грусти, без оглядки,
сокращая житие на треть,
я хотел бы на шестом десятке
от разрыва сердца умереть.
День бы синей изморозью капал,
небо бы тускнело вдалеке,
я бы, задыхаясь, падал на пол,
кровь ещё бежала бы в руке.
Лиризм Корнилова скорее воздушный, в то время, как у Васильева – плотный, вещный, раскатистый.
Каспийские валы Корнилова, качаясь, словно плескают в самое небо, будто обыденной жизни мало: скудна она, шибко ограничена:
За кормою вода густая —
солона она, зелена,
неожиданно вырастая,
на дыбы поднялась она,
и, качаясь, идут валы
от Баку до Махачкалы.
Мы теперь не поём, не спорим,
мы водою увлечены —
ходят волны Каспийским морем
небывалой величины.
В пределах земного вовсе не тесно Васильеву, он любуется – всем-всем:
Змеи щурят глаза на песке перегретом,
Тополя опадают. Но в травах густых
Тяжело поднимаются жарким рассветом
Перезревшие солнца обветренных тыкв.
В них накопленной силы таится обуза -
Плодородьем добротным покой нагружен,
И изранено спелое сердце арбуза
Беспощадным и острым казацким ножом.
И в стихах – словно гулы плодородья, и сердце арбуза, будто красное вдвойне, хрустит не страшной смертью под упомянутым ножом…
Точные портреты, необыкновенно фокусируясь на деталях, используя их, красноречивые, даёт Васильев:
Лукавоглаз, широкорот, тяжел,
Кося от страха, весь в лучах отваги,
Он в комнату и в круг сердец вошел
И сел средь нас, оглядывая пол,
Держа под мышкой пестрые бумаги.
Тогда, как Корнилов, плотно принимая творящуюся вокруг новь, больше на счёт масс, человеческих множеств, здесь «нас» логичнее, нежели «я»:
Нас утро встречает прохладой,
Нас ветром встречает река.
Кудрявая, что ж ты не рада
Весёлому пенью гудка?
Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах звеня,
Страна встаёт со славою
На встречу дня.
Прохлада ощущается, песня, некогда известная всей стране, и сегодня будит в душе бодрое нечто, юношеское…
Васильев алхимически совмещал плотность и полётность стиха, свободное дыхание речи пульсировало; у Корнилова природная лёгкость заставляла пронизывать собой любую тяжесть, забубённость одиночества, когда конь становится ближе людей.
Они дружили – поэты необычайных одарённостей и судеб, размолотых трагически; они дружили, создавая совершенно непохожие стихи, и вращение оных, работа в сердцах идущих в неизвестность поколений продолжается – пусть для не столь уж многих представителей поколений оных.