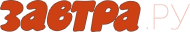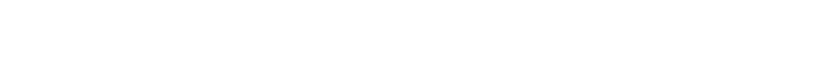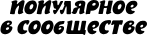Прилепин Захар. Тума: роман. М.: АСТ, 2025.
В широких границах СВО не первый год идет война с Западом, а в пространстве этого эпоса не исчезают – на радость врагам и всем поклонникам смертельно опасных интриг – очаги гражданских конфликтов. Наша уникальность и большое отличие от Союза эпохи Великой Отечественной заключается в том, что мы не хотим оставлять внутренние разборки на потом, нам нужно вести две войны сразу. Если учесть, что и во внешнем эпосе много проблем, о чем прекрасно осведомлены Европа и Америка, - то легко не будет.
Одни хотят срочно похоронить Ленина. Другие готовы избавиться от инициаторов антисоветских ритуалов. Разумеется, это только начало. Дальше будет жестче. Деление на два, отождествление одних россиян с Богом, а других с дьяволом настолько привычная ситуация, что активизация «сатанинского Запада» почти никого от местных битв не отвлекает. Более того, по сравнению с 22-м годом ныне явное обострение.
Захар Прилепин – один из участников двух войн, которые сейчас были обозначены. Недавний юбилей писателя все сюжеты только обострил. Сразу скажу: я не в хоре с теми, кто последние недели поет о «Захаре – гении», и мне мало интересны те, кто в надоевшем инфантилизме кричат о «Захаре – Евгении». Надеюсь, я понятен.
Все знают, что Прилепин учился у Лимонова и Проханова. Втроем они свидетельствуют о самой значительной «философии поступка» в русской словесности рубежа тысячелетий. Однако автор «Тумы» в одном точно отличается от своих наставников. Проханов и Лимонов используют прозу как возможность идейной агрессии, и художественная риторика – временами сливаясь с публицистикой и автобиографией – будто и не желает совершенства отдельного произведения, атакует очередным сюжетом. Прилепин хочет фиксированного, обособленного существования отдельной книги: так было и с «Обителью», еще очевиднее – с романом о Разине.
Вряд ли здесь хватит места для исчерпывающего пояснения, но все же намечу проблему: проповедники – все трое; однако лишь у Прилепина поэтика стремится стать полноценной частью проповеди, ею самой. Можно еще проще: роман как средство и путь к победе (Проханов и Лимонов) – и роман как желаемая победа, как самодостаточное высказывание (автор «Тумы»). У Лимонова роман и всякая иная книга становится иллюстрацией авторской гордыни. У Прилепина есть гордыня романиста – это иная история. Он чувствует: в бессмертие с «публицистикой» въехать проблематично, из русских просторов наверх – лучше с романом.
Он знает: двойственных и падших персонажей во всех жанрах словесности – море! Положительный герой нужен нашей литературе! Если вам не нравится предложенное мной название статьи, можете прочитать иначе: «Совершенный Степан». Идеальный – это очень живой (в душе, инстинктах и телесности) и одновременно почти мертвый: и по числу ран своих, и по избранному движению, и по каждодневной готовности к смерти. Идеальный – это всегда готовый убить врага, но не лишить себя покаяния. Совершенный – тума: рожденный казаком и «турчанкой» евразиец. Совершенный – это сам Захар Прилепин в основном символе текста, в своей альтернативной биографии XVII века, в своей романной автобиографии, в зеркале как бы архаичного сюжета – в которое смотрится сам.
Дидактических жестов в книге – не сосчитать. Уже на одиннадцатой странице – поучительное, в одеждах искусства: «Отец говорил: если боль повсюду – не пробуй ее победить. Заберись внутрь своей муки и лежи в ней, как в утробе». Есть фрагменты, претендующие на многозначительный духовный оптимизм. Нет, на сакральность!
Как Степан молится!
Как Степан радуется!
Как Степан кается!
Эти прилепинские микропоэмы – тщательно продуманная и прочувствованная идеализация, которая должна мощного «советского» героя канонизировать заново, уже в условиях СВО-реальности. Пространственно-временные «чудеса» (разумеется, они в символическом подтексте) соединяют в «Туме» Дон четырёхсотлетней давности, мифологию большевистской революции и тяжесть сегодняшней спецоперации.
Даже алкоголь в его безумных черкасских количествах не способен подорвать жизнелюбие героя: «… Степан поднялся раным-рано. Как всегда случалось с ним после хмельной ночи: ясный, жадный до жизни». Да кто ж поднимался ясным после бочки самогона, да еще поднимался ясным всегда?! Неужели Захар Прилепин не пил? И не в курсе, что после по-настоящему хмельной ночи быть «жадным до жизни» - знак идеальной силы, но не правды?
Сегодня писатели редко любят своих героев (о, вспомнил сейчас «Веру» Александра Снегирёва – дикое безобразие!). Прилепин влюблен в Разина. В этом контексте не удивляют слухи о чудесах, которые творил Степан в азовской яме, где был без шансов на спасение. Пожалуй, удивляет, что Прилепин не превратил эти слухи в локальный миф. Если бы Степан Разин ещё в свои двадцать семь стал святым (я о романе), это рассмешило бы – не слишком поразив наглостью итога. Да он и стал святым, потому что художественная канонизация героя – главная задача Прилепина. Ему нужен не просто роман. Житие с подвижной иконописностью создаётся.
Чтобы не забыть: геополитика в «Туме» - цепь эпизодов для вразумления «чужих», если они дойдут до этого текста. Почти мозолит глаза лейтмотив необходимого уничтожения вражеского Азова. Да, всем понятно, что он, однажды взятый, должен быть очищен от османов – раз и навсегда. Но хорошо укреплен – это раз. Русский царь с гибкой политикой и поиском новых союзников тормозит – это два. Страсти казаков при отсутствии штурмового разума – три! А брать Азов надо! И Украину брать надо! Преодолев политкорректность, бездны дипломатии – которые унесли уже тысячи и тысячи жизней. Прилепин это знает. «Тума» и об этом.
Многоязычие («роман написан на восьми языках»), избыточность словаря – слабо. Как-то вообще не уместно, настолько лишне – что просто неловко. Младший Разин слушал песни, бывал в походах, видел торговлю – научился языкам. Ну зачем создавать «бригаду» лингвистов, чтобы в русской транскрипции передавать иноязычную речь перед последующим «переводом»? Эта смешная лингвоимперия, подражающая кино, пролистывается без сомнений. Она вызывает досаду. Лишь остаётся вопрос: зачем он это делает?
И этот вопрос важен. Это вопрос о «правде», на котором завис «новый реализм». Прилепин – самый видный его представитель. Здесь с ума сходят от «правды», при этом сохраняют монополию на неё. Стилизованное разноязычие «Тумы» - поводок для читателя, которого готовят к встрече с самыми важными смыслами. В принципе, он один: Прилепин строит свой роман как доказательство истинности и действительности в нем происходящего. Собственно, лавина восторженных отзывов данный факт подтверждает: мол, это не роман, это жизнь – и разинская, и наша.
Текст служит настойчивому продвижению «правды»: «новый реализм» здесь не следует логике двойственности эстетического высказывания, а требует нашего согласия с тем, что все именно так и было – не в пространстве искусства, а в самой жизни, чудом писательского императива открывшейся в тексте. И тут надо стать особо внимательным: правдой становится не реализм, столь нужный автору «Тумы», а барокко. Не Толстой или Шолохов вспоминаются в первую очередь, а Ганс Гриммельсгаузен с его немецкими излишествами – действительно в стиле разинского XVII века.
Хотя бы два примера. «Хрустнуло, будто сломался крупный сук. Оба глаза ногая выпрыгнули в разные стороны, оставшись висеть на лице»; «Ярко-зеленые виноградники напоминали баранов, идущих друг за другом в гору». Это что? Метафорическое сообщение об одной из фабул или гротескное преодоление зависимости от нудной обыденности? Слово становится грузным телом: «… Посреди пути лежал на спине умирающий татарин, прижав к животу босые, черные ноги и задрав их так, как бабы задирают, блудя…», - в одной фразе нарастает гул бесчеловечности. Мало убить. Недостаточно показать нищету трупа. Надо ещё соединить мертвеца с одним из смертных грехов, в котором он теперь совсем не виноват.
А вот в романном кадре другой вражеский татарин: «Курица метнулась ему в ноги, он чуть запнулся, - и тут же рухнул лицом вниз, срубленный Иваном Разиным, братом главного героя. Удар оказался так силен, что в разверстой спине было различимо дышащее нутро». Что ж, убит, разъят, пошли дальше. Нет, через полстраницы ужас уничтожения должен вернуться: «Ноги зарубленного татарина продолжали мелко дрожать, руки же нагребли пыли и куриного помета. На его рану уже слетались бирюзовые мухи». Прошло ещё полстраницы: «Подпрыгивая, туда же катилась только что срубленная голова пытавшегося бежать подростка. Голова ударялась о камень то раскрытыми губами, то оттопыренным ухом, то грязным, в налипшей пыли, затылком». Теперь можно остановить фрагмент? Ещё рано: «… Вынув из мешка отрубленную кисть, Иван Разин с усилием, крутя, снимал с мертвых, еще гнущихся пальцев кольца, нанизывая одно за другим то на свой безымянный, то на липкий мизинец».
Считать не буду, операцию произведут без меня. Возможно, прилепинский роман – лидер по числу убиенных во всемирной литературе. Чудовищное число страданий! Но нет Иова с его вопросами. Нет и того катарсиса, который с праведником из земли Уц связан. Нет Иова! Впрочем, если начать разговор об этом, уже иные жанры и форматы потребуются. Да и нужен ли Иов «новому реализму»? Здесь большая нужда в детализированной технологии естественного ужаса, о которой речь шла выше.
Тут есть одна ловушка. Прилепин служит «правде», поэтому так много смерти в казачьей жизни и её расширении. Правда – в постоянной трансляции любви к существованию, и любовь эта должна закаляться в ежестраничных явлениях расчленений, невыносимой боли, убиений.
С одной стороны, все понятно: «Тума» работает против ключевого сюжета нашей новейшей прозы, когда тошнота, вызванная обреченной телесностью и тоталитарной государственностью одновременно (такой вот тяжкой божественностью и русскостью), направляет к читателям миры Михаила Шишкина (признан в РФ иноагентом), Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом), Александра Иличевского или Виктора Пелевина. Прилепинское любование телом, его инстинктами и возможностями – против гностиков. Примем и прославим жизнь – во всем, всегда и везде! «Так томила плоть, что дурел», - даже такие эпизоды со Степаном готовы обернуться гимном.
С другой стороны, и «хирургические» акценты, и разнообразное «разблезианство» сигналят не только о честном ренессансе. Лет двенадцать назад, прочитав романы Сергея Шаргунова («1993») и Владимира Сорокина («Теллурия»), я написал в «Вопросах литературы» о странном сближении двух авторов-антагонистов: в редукции, в уменьшении души, которая оказывается побежденной идеологией тела. В «Обители», появившейся тогда же и вместе с «Теллурией» взошедшей на пьедестал «Большой книги-2014» (Прилепин – первый, Сорокин – второй!), похожая история.
Меня легко опровергнуть: у Шаргунова и особенно у Прилепина телесность празднует утопию, восходящую и к советскому мифологическому материализму; у Сорокина жесточайшая, доводящая до тошноты антиутопия – формально антисоветская. Всё это так. Но где-то в середине «Тумы», когда на какие-то минуты пришло искушение пролистывать страницы однородных криков, стонов, хрустов и хрипов, я вспоминал сорокинское «Наследие» -кульминацию гностического отторжения от гуманизма. Правда, там я от искушения избавиться не смог.
И ещё одно совсем смешное сопоставление. Много занимаюсь эллинами и римлянами, античной литературой. Иногда для бодрости и простоты перечитываю и слушаю «Легенды и мифы Древней Греции» Николая Куна – гениальное соединение лучшей из языческих культур с нашим коммунистическим постхристианством. Одной из самых значительных форм общения в мире богов и героев становится жестокое уничтожение врага или вчерашнего товарища, вместе с семьей и домочадцами, обнаружение в себе беспощадного, неудержимого и по-своему красивого изверга – идущего порою дорогой каннибала. Человеческое, божественное и зверское образуют дионисийский хоровод. Даже Аполлон знает в нём свое место! Сюжетам «Тумы» этот хоровод не чужд. Прилепинские казаки в хороводе никому места не отдадут.
В романе два вектора нарастающего напряжения (и стремление к «правде», и стремление к «искусству») создают значительный парадокс: необходимость искоренения дьяволоподобных врагов требует эстетической условности (как, например, в средневековой «Песне о Роланде»), но страстная верность «правде» заставляет показывать зверства крупным планом, не отрывая художественных глаз. В итоге средневековая казачья жизнь, показанная средствами усиленного реализма, оборачивается диким натурализмом. Он будто пытается выгнать читателя из текста задолго до развязки. Там, где средневековый франк показывает средневековую бойню в системе героико-эпических символов, наш автор отбрасывает все умолчания и приглашает смотреть в упор, словно качественное видео из далеких веков.
Как в романе с христианством? Вот богословие Лариона Черноярца: «Дед и о Христе говорил тем же тоном, будто не всеблагой Господь хранил казаков, а на самом деле они берегли Христа от басурманского поругания. Слушая деда Лариона, возможно было представить Христа похожим на Матрёнина Якова среди цыплят». Вот простое упование главного героя: «Степан был готов расстаться с самим собой, зная, что у него не будет ни могилы, ни креста, ни сына. Ни страх, ни досада не донимали его душу: мало ли казаков пропали так же? Господь разберется; у Него никто не потеряется». Вот героический императив его брата Ивана: «На том свете жить. А на сём – помирать». Вот черкасский священник Купреян: «Казаки во Христе живут, оттого что как птицы небесные – не сеют, не жнут, не сбирают в житницы…».
Ясно, что казаки – «христолюбивые тати, для которых пролитие поганой крови было заглавной заботой». Весь роман полон напоминаний о разбойнике, который первым вошел в рай за Христом. Это понятно! И всё же Прилепин перед самым финалом ещё раз возвращается к разбойнику, которого уже трудно представить в раю. Сначала этот коллективный герой, оказавшийся в Крыму, убивает всех плененных татарами русских. Они не выразили желание покинуть теплые приморские места ради суровой родины. Зарублены будут все – русские. Вскоре – подробно об уничтожении ногайского селения: «Ежели ногайца не погубить в шесть лет – глянь, а уже припоздал, и он те жилу перекусил».
Не праздный это вопрос: кто и как попадает в рай? Русь для Прилепина не столько христианство и мир, сколько война и роман. Естественное и спасительное братство сражающихся за свою землю – думаю, это Прилепин хотел утвердить. Или сражающихся ради сражения, атакующих ради атаки? Этот вопрос сложнее ответа «нет».
А при чём здесь роман? Думаю, как и для многих советских людей, для Захара Прилепина искусство романа и литература в целом есть форма духовного поступка, закономерная религия в художественном слове, замена христианства. В этом поступке – думаю, так и в «Туме» - одновременно нарастает война за правду и сложность внутренних миров, как мощный жест против гностиков и, конечно, фарисеев. Истинный роман должен бить по гностикам с их осквернением реальности и по фарисеям с их жаждой всё подчинить фигуре застывшего Чиновника. Тут бы поговорить о теории романа Вадима Кожинова (точно не чужого для Прилепина мастера), да уже нет времени.
Тем, кто собирается славить Прилепина (тут много мирных девушек!) или саркастически отрицать его (есть очень воинственые!), надо учесть один факт. «Тума» – не только о необходимости всеобщей мобилизации в условиях битвы с беспощадным врагом. Роман Прилепина претендует на большее. Он – о невозможности демобилизации: все живут на войне, война иногда перерастает в гражданскую (тут Степан Разин автору совершенно необходим), полный мир – фикция.