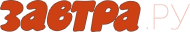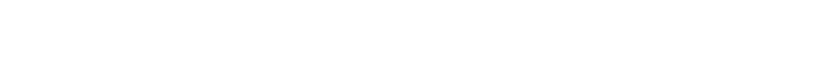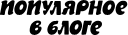В конце 70-х годов прошлого столетия поэт Давид Самойлов, настоящая фамилия которого – Кауфман, пишет не совсем обычную поэму из русской жизни, причём из жизни крестьянской. Поэма называется «Цыгановы».
Самойлов был умным, думающим и поэтически одаренным человеком, но у него был существенный недостаток - тот же, к слову, что и у русского стихийного гения Льва Толстого: плотские влечения в его душе преобладали над духовными запросами. Самойлов, как и Толстой, этот недостаток в себе осознавал и даже счел нужным отметить его в одном из писем: «Я жизнь люблю «физически», гораздо больше, чем умом. В этом моя слабость». И он попытался представить последствия этого недостатка, передоверив его вроде бы очень далекому от себя герою поэмы, русскому крестьянину, которого он наделяет точно таким же свойством.
«Цыгановы», в которых проговариваются важнейшие для самоощущения Самойлова вещи, состоит из пяти глав. Первая – запев, где дается общая поэтическая консистенция жизни героев, в последующих главах последовательно описываются праздник и принятие гостя, рождение сына, колка дров; соответственно – праздничный досуг, продолжение рода, труд и, наконец, в последней главе – смерть, заключающая и подводящая итоги этим основополагающим событиям в жизни крестьянина, да и самой его жизни. Все это дается с державинской плотностью, сочностью, красочностью и размахом.
Вот описание обеда, которым потчуют Цыгановы гостя:
В мгновенье ока юный огурец
Из миски глянул, словно лягушенок,
И помидор, покинувший бочонок,
Немедля выпить требовал, подлец.
И яблоко моченое лоснилось
И тоже стать закускою просилось.
Тугим пером вострился лук зеленый,
А рядом царь закуски – груздь соленый
С тарелки беззаветно вопиял
И требовал, чтоб не было отсрочки.
Графин был старомодного литья
И был наполнен желтизной питья,
Настоянного на нежнейшей почке
Смородинной, а также на листочке
И на душистой травке. Он сиял.
При сем ждала прохладная капустка,
И в ней располагался безыскусно
Моркови сладкой розовый торец.
На круглом блюде весело лежали
Ржаного хлеба теплые пласты
И полотенец свежие холсты
Узором взор и сердце ублажали.
...Поверхность благородного борща
Переливалась тяжко, как парча,
Мешая красный отблеск с золотистым.
Картошка плавилась на сковороде.
Вновь желтым самоцветом три стакана
Наполнились. Шипучий квас из жбана
Излился с потным пенистым дымком.
Яишница, как восьмиглазый филин,
Серчала в сале. Стол был изобилен.
А тут – блины! С гречишным же блином
Шутить не стоит! Выпить под него
Святое дело. Так и порешили.
И повторили вскоре. Не спешили.
Описание заканчивается очень простой, но на самом деле довольно странноватой фразой: Однако время шло, которая обретет настоящий смысл только в финале.
С таким же знанием дела описана и колка дров:
Воскресный день. Сентябрьский холодок.
Достал колун. Пиджак с себя совлек.
Приладился. Попробовал. За хатой
Тугое эхо екнуло: ок-ок!
И начал. Вздох, и взмах, и зык, и звон.
Мужского пота запах грубоватый.
Сухих поленьев сельских ксилофон.
Поленец для растопки детский всхлип.
И полного полена вскрик разбойный.
И этим звукам был равновелик
Двукратный отзвук за речною поймой.
А Цыганов, который туговат
Был на ухо, любил, чтоб звук был полон.
Он так был рад, как будто произвел он
И молнию, и грозовой раскат.
Он знал, что в колке дров нужна не сила,
А вздох и взмах, чтобы тебя взносило
К деревьям - густолистым облакам,
К их переменчивым и вздутым кронам,
К деревьям - облакам темно-зеленым,
К их шумным и могучим сквознякам.
Он также знал: во время колки дров
Под вздох и взмах как будто думать легче.
Был истым тугодумом Цыганов,
И мысль не споро прилегала к речи.
Самойлов знал, о чём пишет: еще в середине 60-х годов из Москвы он переехал в подмосковный поселок Опалиху, жил в ритме русской деревенской жизни, понятие о крестьянском труде имел, так что все происходящее было ему близко.
Но главное не это. В своей попытке постижения русского мира, Самойлов вроде бы как свой входит в цельную и полновесную жизнь, определяющую его уклад и строй (лад, как точно выразился Василий Белов), с пониманием и причастностью творящего и любящего свое творение демиурга он присутствует при трапезе с гостем, колке дров, которой Цыганов решил заняться в воскресный день, что, кстати, было бы просто немыслимо для дореволюционного крестьянина, и даже при путешествии домой из роддома с новорожденным сыном. И – в смерти, которая завершает эту играющую всеми красками поэму, что, конечно же, вовсе не случайно. И вот тут оказывается, что не всё с этой жизнью ладно.
Самойлову вместе с его героями хотелось бы думать, что она одушевлена не только внешне, но и изнутри. К этому бьющемуся внутри себя нерву главный герой прислушивается на протяжении всего действия, но окончательно сосредотачивается для окончательного разрешения вопроса о смысле жизни только перед кончиной. Но, подводя итоги всему, что происходило в этой жизни, он понимает, что по большому счёту всё было бессмысленно, так как в ней отсутствовало самое главное – то, чем требовалось её дополнить. Цыганов любил жизнь во всей полноте – но исключительно ради самой жизни. Но ведь главное в жизни не сама жизнь, главное в ней – то, что её одухотворяет. Теперь жизнь подошла к концу, для её осмысления требуются дополнительные душевные усилия и отправившийся умирать в сарай Цыганов их пробует пробудить в себе, но конечный итог не поддается его пониманию, он недоступен и его жене, в конце поэмы у остывающего тела мужа довольно неожиданно выдыхающей откуда-то изнутри: жаль, Бога нет.
Почему, собственно, жаль? Потому, что если нет Бога, то нет и продолжения человеческого существования в инобытии, все заканчивается с истечением существования земного. А тогда - к чему вся эта играющая яркими красками жизнь, если в конце её - бесцветная смерть, после которого не будет уже ничего? Здесь камень преткновения не только для Цыгановых, но и для любого не религиозного человека – и это как раз то, что сближает автора с его героями, хотя, в отличие от него, вполне достойные уважения сельские труженики над этими вопросами при жизни ни разу основательно не задумывались. Были, правда, смутные ощущения, несколько раз на протяжении поэмы готовые обратиться в мысль, но тут же отгоняемые в глубь сознания.
Свойство это присуще не только советским крестьянам, вроде Цыгановых, которых время лишило исконных мировоззренческих стержней, этим страдает и творческая, и, в особенности, техническая интеллигенция, в срочном порядке испеченная для осуществления своих прагматических целей атеистической Советской властью, давшей им и образование, и профессиональные навыки, и условия для относительно сносного существования под опекой вездесущего государства, но вот понятие о том, для чего нужна сама жизнь, так и не давшей. В результате –мёртвое, голое, продуваемое всеми ветрами внутреннее пространство постсоветской действительности после вроде бы благополучно и правильно прожитой жизни и честного труда во имя будущих поколений и во славу Родины. Было всегдашнее желание как можно дольше продлить такую жизнь, но то, что эта жизнь закончится никому в голову не приходило. Как и то, что для того, чтобы достойно закончить земное существование, требуется что-то еще – то, до чего Цыганову было мало дела и во время работы, и во время праздников, и, в особенности, после рождения долгожданного сына, мнящегося как воплощение нескончаемой счастливой жизни, ведь
он нес младенца в голубых обновах,
Как продолженье старых Цыгановых
И как начало Цыгановых новых,
Он нес начало будущих веков,
Родоначальника полубогов.
Среди пеленок, кружев, oдеялец
Лежал их дома новый постоялец.
И Цыганов глядел при этом вниз,
Чтоб незаметно было, как лились
Из глаз его безудержные слезы...
Где же теперь эти полубоги, долженствующие продолжить дело отцов? Слёзы, которые если и льются из глаз у выросших потомков, ведь далеко не те, что лились из глаз их отцов при мысли о светлом будущем, о котором они мечтали, но которое ни им, ни их детям, ни внукам так и не довелось и уже никогда не доведется увидеть.
Вздох, который издаёт Цыганова у тела мёртвого мужа, разделяет, по всей видимости, и Самойлов, интуитивно чувствующий и выражающий мысль о присутствии в мире Творца на всем протяжении своего творчества, но только на уровне разума , ведь этот уровень так много значит для интеллигентов вроде него, и всё же не могущий принять Его в себя. А ведь Бог, как окончательный, завершающий картину гармонического и цельного мироустройства аккорд, к Которому должны направляться все усилия в деле окончательного прояснения картины красоты мироустройства, необходим не только для верующего, но и для неверующего человека. Иначе бесплодны даже предсмертные размышления героя, под которыми мог вполне подписаться и автор поэмы:
И думал Цыганов: «Зачем я жил?
Зачем я этой жизнью дорожил?
Зачем работал, не жалея сил?
Зачем дрова рубил, коней любил?
Зачем я пил, гулял, зачем дружил?
Зачем, когда так скоро песня спета?
Зачем?» И он не находил ответа.
И дальше думал: «Как же это?
Зачем я жил? Зачем был молодой?
Зачем учился у отца и деда?
Зачем женился, строился, копил?
Зачем я хлеб свой ел и воду пил?
И сына породил – зачем все это?
Зачем тогда земля, зачем планета?
Зачем?» И он не находил ответа.
Эти простые и естественные вопросы перед смертью может и должен задать себе каждый человек, но вот с ответами у неверующих наверняка возникнут проблемы. Вывод, который в конце концов предлагает Самойлов:
Неужто только ради красоты
Живет за поколеньем поколенье –
И лишь она не поддается тленью?
И лишь она бессмысленно играет
В беспечных проявленьях естества?..
легко подвергается сомнению, ведь слова о бессмысленной игре красоты в беспечных проявленьях естества свидетельствуют о том же: нет Бога – значит нет смысла и во вроде бы ладно протекшей пред глазами читателя жизни крестьянского семейства, ведь физическая смерть любого из ее членов неизбежно должна прервать кажущуюся очень крепкой связь между ними, умершими и пока что еще остающимися в живых. И слава Богу, что хотя бы в сознание Цыгановой, пожалевшей у ещё не остывшего тела мужа об отсутствии в их жизни Творца, хотя Он, конечно, и в эту минуту присутствует и подле нее, и подле умершего, как присутствовал возле них всегда, автор вкладывает эту важнейшую мысль.
Илл. Е. Конев «Плотник. Дом для внуков»