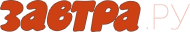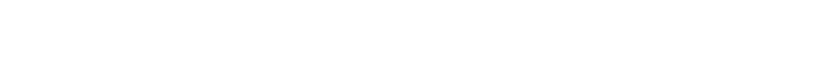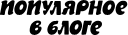Различие между образом мыслей русского и западного человека сказывается иной раз в самых неожиданных областях самым причудливым образом. Например – в писательстве.
Евгений Баратынский родился, жил и писал в России первой половины девятнадцатого века. Эзра Паунд родился в Америке, жил и работал в Англии и Италии в веке двадцатом. И тот, и другой – поэты выдающиеся, резко выламывающиеся из ряда других. Оба – представители интеллектуального направления в поэзии. И каждый в отдельности – носитель противоположных начал, благодаря одному из которых русский человек вписан в окружающее пространство и не способен существовать вне его, под влиянием же другого человек Запада озабочен идеей кардинального преображения этого пространства и подчинения его с последующей организацией вокруг собственной личности. Эти аспекты очень наглядно представлены в стихотворениях «Недоносок» и «Парацельс в эмпиреях», из которых вычитываются некоторые дополнительные, вполне оправданные, но, вероятней всего, вряд ли учитываемые авторами смыслы.
Причина расхождений между двумя поэтами, верней – одна из причин, но зато едва ли не самая главная – разность восприятий, объяснимая воспитанием в сильно разнящихся средах: Баратынского – в православной, Паунда – в протестантской, поэтому совсем нетрудно увидеть разность их подходов к человеческой жизни, к мирозданию, к Высшему Творцу. Героям стихотворений присуще существование, которое, с одной стороны, не связано с телесностью, а с другой не определяется принадлежностью к миру духовному. По сути Недоносок Баратынского мог обладать той же сущностью, к которой, как к идеалу, устремлен паундовский Парацельс, однако необычная личность героя русского поэта вполне может рассматриваться как модель сознания, предпочитающего пребывание в пограничной между землею и небом территории в виде некоего эфирного фантастического существа, получеловека -полуангела, в котором легко угадывается русский человек с его всегдашней широтой души с сопровождающей эту широту рефлексией, неопределенностью желаний и синдромом пресловутой отзывчивости (не является ли таким Недоноском в Божьем замысле относительно всех остальных стран и сама Россия?)
Модель сознания паундовского героя более многосоставна: в ней много и от буддизма, и от индуизма, и от средневекового западного универсализма, который существеннейшим, даже коренным образом отличается от современной европейской модели жизнеустройства, окончательно сформировавшейся в конце восемнадцатого века, и от современного позитивизма с его педантизмом и суетливой въедливостью, заставляющей постигать навязываемую человеку земную премудрость, в конечном счете предполагающую полное преображение в демоническую сторону богоданного человеческого естества вплоть до его окончательного истребления в себе. И, в конечном счёте, выход в какие-то иные параллельные миры через череду преобразований человеческого состава, который виделся герою стихотворения в виде следующих элементов:
«элементарное тело» - тело материальное или физическое, «Chat» у египтян и «Guf» у евреев;
«archaeus» - электромагнетическое тело, начало, без которого физическое тело не может ни существовать, ни двигаться: «Анх» египтян и «Coach-ha-guf» евреев;
«evestrum» - звёздное, астральное тело, «Ка» египтян и «Nephesh» евреев, родина которого — астральный мир, точная копия материального тела, которая может покидать физическое тело и даже сопровождать дух человека после его смерти;
«spiritus animalis» - животная душа, «Hati» или «Ab» египтян, «Ruach» евреев, где сосредоточиваются низменные, животные, эгоистические инстинкты и страсти;
«anima intelligens» - разумная душа, «Bai, Ba» египтян и «Neshamah» евреев) — форма, в которую облекается человеческая душа в высших сферах в момент воссоединения с ангельским миром;
«anima spiritualis» - духовная душа, духовное тело божественного происхождения, «Cheybi» египтян и «Chaijah» евреев, местопребывание всех благороднейших и возвышенных стремлений человека;
«человек Нового Олимпа» — искра Божества, часть божественного «я», пребывающая в человеке.
Человек, по Парацельсу, может достигнуть конечного состояния приведенного ряда посредством каббалы, являвшейся главным источником его занятий и помогающей лишиться плотского начала, чтобы обрести свойства духа высших сфер, причем отнюдь не таких, как у героя Баратынского, духа изначального, мятущимся между ангельской и человеческой природами и никак не могущего предпочесть для себя одну из них. Парацельс же, несмотря на некогда присущую ему телесность, человеческих свойств лишается совершенно, более того - выпадает из всех органических рядов и в результате предстает неким маргинальным явлением исключительного порядка. Но вправду таким ли уж исключительным?
Прочтём текст Паунда, личность которого в моих глазах выглядит весьма таки значительной на фоне нынешнего примитивного мелкотравчатого западного люда, и это в какой то степени служит оправданием того, что он написал.
Поскольку я перестал быть человеком, зачем мне
Продолжать считать себя частью человечества
И утверждать, будто бы я по-прежнему обладаю телом?
За свою жизнь я знал многих людей, но
Ни один из них не обладал такой летучей сущностью, как я
И не состоял из таких простых элементов,
Которые составляют мое нынешнее существо.
Ветерок касается зеркала, и я вижу его.
Смотри! Перед нами проносится весь мир в своих формах.
Волнение, которое исходит от них, колышет нас,
И мы, не имея определенной формы, взлетаем выше -
Летучий эфир, который когда-то был человеком.
Мы, словно статуи, ступни которых
Омывает мощный бурлящий поток.
Единственный элемент, который мы сохранили - это спокойствие.
Стихотворение приведено в подстрочном переводе.
Главное, что может поразить русского читателя и, наверное, поражает – это сознательное отделение героя себя от всего человеческого. На этом фоне очень странным кажется появление некоего обобщенного «мы» ближе к концу стихотворения. Это «мы» – не люди, это созданные по лекалу собственного сознания эфирные существа, в мир которых помещает себя отдалившийся от человечества герой и в конце стихотворения его приобретенное путем неназванного алхимического или же каббалистического акта состояние обозначено прямо:
Мы, не определенной формы, взлетаем выше –
летучий эфир, который когда-то был человеком.
Именно эти строки дают нам повод перейти к стихотворению Баратынского, где позиция героя обусловлена прямо противоположными началами, и, можно даже сказать - протестом против того, чем удовлетворяет свои амбиции паундовский Парацельс.
Я из племени духов,
Но не житель эмпирея,
И, едва до облаков
Возлетев, паду, слабея.
Как мне быть? Я мал и плох;
Знаю: рай за их волнами,
И ношусь, крылатый вздох,
Меж землей и небесами.
Блещет солнце – радость мне!
С животворными лучами
Я играю в вышине
И веселыми крылами
Ластюсь к ним, как облачко;
Пью счастливо воздух тонкой,
Мне свободно, мне легко,
И пою я птицей звонкой.
Но ненастье заревет
И до облак свод небесный
Омрачившись, вознесет
Прах земной и лист древесный.
Вихорь хладный! Вихорь жгучий!
Бьет меня древесный лист,
Удушает прах летучий!
Обращусь ли к небесам,
Оглянуся ли на землю –
Грозно, черно тут и там;
Вопль уныло я подъемлю.
Недоносок Баратынского, в отличие от паундовского персонажа, сосредоточенного на самом себе и потому ничего не воспринимающего из внешнего мира, зависим от многого: и от внешних стихий, и от света, и от воздуха – от всего, что существует вне его. Человеческая и одновременно ангельская природа Недоноска способна ощутить родство с каждой из данностей мира, которые в случае Парацельса предстают лишь как механические детерминированные слагаемые, пригодные для единственной цели – формирования его новых внешних эфирных обликов, тогда как воздушный дух Баратынского, уже приобретший один из таких обликов и пребывающий на границе земного и небесного, жаждет сродниться с человеческим миром, от которого в конечном счете начисто отрешен его заочный визави.
Смутно слышу я порой
Клик враждующих народов,
Поселян беспечных вой
Под грозой их переходов,
Гром войны и крик страстей,
Плач недужного младенца...
Слезы льются из очей:
Жаль земного поселенца.
Паундовскому Парацельсу до земного постояльца нет никакого дела, он от него со всех сторон отделен некой эфирной стеной. Но не это самое удивительное – другое: подчеркнутая бесстрастность состояния его души, сопрягаемая с застылостью статуй:
Мы, словно статуи, ступни которых
Омывает мощный бурлящий поток.
Единственный элемент, который мы сохранили - это спокойствие.
И вот это-то спокойствие вызывает вопросы. В случае, если герой каким-то образом смог приобрести вид духа, то в новом своем существовании он должен был бы пребывать в постоянном движении, ибо динамичностью отличается не только созданный Богом человеческий мир, даже постоянно славящие Бога ангелы и противостоящие Ему демоны никогда не находятся в покое. В работах Парацельса эти состояния находятся в непрестанном противодействии, но в своей «Книге о познании» он, пускай даже признавая преимущество второго, все же видит больше пользы в первом: «Спокойствие лучше беспокойства, но беспокойство полезнее спокойствия».
В стихотворении Паунда нашла отражение, по всей видимости, еще и неоплатоническая теория об изменении форм, недаром его настроение определяет мотив дуновения ветра, так или иначе изменяющего эфирное пространство. Но образцом идеала признаются все же недвижные статуи. Их спокойствие уподоблено, если исходить из предыдущего контекста, равнодушию, визуально выраженному в ужасающем величии гигантских фигур, может быть - индуистских богов, «ступни которых омывает мощный бурлящий поток». Подразумевается - жизнь, копошащиеся внизу люди.
Отрешаясь от раннее присущей ему человеческой оболочки (по православному учению игнорирование человеческого тела - это грех, равный ереси) герой гораздо уютнее чувствует себя вне ее. Это не значит, что только вне тела, гораздо в большей степени – вообще вне мира, и не только человеческого, но и ангельского, вероятней всего – в параллельной миру реальности. Он не испытывает в отношении к покинутому миру людей, который виден ему теперь с некой высоты, никаких чувств. Счастьем для него является то, что, в случае принятия, еще более усугубило бы трагизм существования героя Баратынского, и без того безмерно трагичное:
Изнывающий тоской,
Я мечусь в полях небесных,
Надо мной и подо мной
Беспредельных – скорби тесных!
В тучу прячусь я и в ней
Мчуся, чужд земного края,
Страшный глас людских скорбей
Гласом бури заглушая.
Мир я вижу как во мгле;
Арф небесных отголосок
Слабо слышу...На земле
Оживил я недоносок,
Отбыл он без бытия:
Роковая скоротечность!
В тягость роскошь мне твоя,
О бессмысленная вечность!
Последней строкой своего стихотворения Баратынский фактически отрицается того, посредством чего самоутверждается паундовский Парацельс – невозмутимости. И – высокого мнения о себе, что опять таки обнаруживает в нем черты чисто русские – в противоположность прямолинейному и целеустремленному духу протестанта, сказывающемуся даже в том, что на Западе принято считать духовной сферой, ведь в Парацельсе начисто отсутствует напряжение, свойственное существу, задавшемуся целью постижения духовных начал Вселенной, которое есть в герое Баратынского, мыкающегося между двумя мирами – низшим, бедами которого он проникся, и высшим, гармонию которого ему не дано испытать в полноте. Парацельс же в новообретенный, может быть даже созданный им мир вписывается без особых усилий, более того – он ощущает себя центром этого мира, притягивающим к себе все остальные его элементы, так что вроде бы буддийское спокойствие, описанное в конце стихотворения, больше смахивает на бытовое протестантское самодовольство, чем на абсолютную свободу от земного бытия в той степени, какая только может быть доступна несовершенному человеческому естеству.
После сравнения этих двух близких по теме, но таких разных по смысловой наполненности произведений, стоило бы, наверное, задаться вопросом: что для человека важней, да и полезней - вечная ли мука не постижения неких таинственных для человека сфер, диапазон которых весьма обширен – будь то выход в космическое пространство или проникновения в мир духов - по причине несовершенства двойственной природы мыкающегося между высшим и низшим миром существа, каковым, в сущности, является любой из нас или же иллюзионистское проникновение в них? Я лично, если бы уж действительно не было никаких иных вариантов, кроме этих двух, наверняка встал бы на сторону мучающегося и не находящего ответа на эти вопросы героя Баратынского - в противовес безмятежно парящему в самоценных мечтательных эмпириях паундовскому Парацельсу.