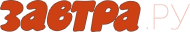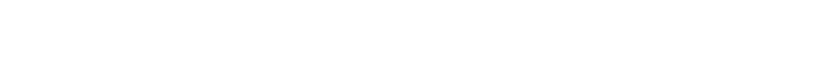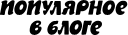Екатерина ГЛУШИК. Дмитрий Владимирович, вас называют "красным адвокатом". Почему?
Дмитрий АГРАНОВСКИЙ. Это идёт ещё с прежних времён, когда я выступал адвокатом при рассмотрении политических дел, их было довольно много. Сейчас политических дел нет.
А в своё время достаточно много было разного рода оппозиционных левых сил, они подвергались репрессиям, преследованиям. Поэтому у меня была в этой части активная практика. Я сам член КПРФ, коммунист по своим убеждениям с детства и умру таким же, это без сомнения, тут уже ничего не изменится.
Думаю, в том, что меня называли "красным адвокатом", сошлись два фактора: то, что я состою в компартии, и то, что я защищал левых.
Хотя я всегда подчёркиваю: адвокат в рабочее время не имеет никаких политических пристрастий, и уж тем более не может ни к кому относиться с антипатией. Если ко мне обратится (что, собственно, и происходило) человек любых взглядов, я буду с ним работать.
Если адвокат начинает рассуждать: "Этот человек плохой, а у этого такое страшное преступление", — то ему надо менять профессию. Адвокат должен в любой ситуации быть на стороне своего подзащитного.
Адвокат, как и врач, как священник, должен видеть человека: вот гражданин Российской Федерации, ему нужна правовая помощь, он к тебе пришёл, потому что больше прийти в этом смысле не к кому. И ты его защищаешь. В нашей Конституции закреплено право на защиту. Вот мы, адвокаты, это право реализуем.
Екатерина ГЛУШИК. Что повлияло на ваше решение стать юристом, адвокатом? Может быть, вы увлекались детективами и вас привлекала эта своеобразная романтика? Или это желание помочь человеку в какой-то ситуации? Или это стабильный доход?
Дмитрий АГРАНОВСКИЙ. Начнём с конца. Доход адвоката абсолютно нестабильный. Адвокат сочетает в себе минусы и государственной службы, и частного бизнеса. То есть мы должны обеспечивать участие, обеспечивать защиту в процессах. В своё время мне приходилось много работать по назначению, зачастую бесплатно. Это с одной стороны.
А с другой стороны, адвокат — это полностью частник, он подвержен стихии рынка. Есть у тебя дела — хорошо. Нет дел — будешь жить впроголодь. Или, если, не дай бог, заболел, то можешь в материальном смысле упасть до самого дна. То есть это абсолютно нестабильная профессия.
В "Российской газете" как-то был материал про юристов, и статья начиналась так: "Если расположить по степени стрессов все юридические профессии, адвокаты окажутся на первом месте с большим отрывом".
Но есть не только минусы. Я как-то смотрел исследования агентства (название его не помню) о самой уважаемой профессии в мире. Не самые денежные, не самые престижные, а именно самые уважаемые: на первом месте — врач, на втором — адвокат, на третьем месте — учитель. И где-то в десятке — медсестра. То есть тоже медик.
Почему конкретно я стал адвокатом? Тут ряд причин. Во-первых, папа мой, Владимир Борисович, был адвокатом, причём очень хорошим. Когда я был помоложе, если слышал: "У вас папа тоже адвокат", — всегда говорил: "Это я — "тоже", а вот он — адвокат".
Но вообще-то, когда ещё был Советский Союз (я 1971 года рождения), я всегда мечтал и планировал работать в КГБ. Но когда наступил мой сознательный возраст — а это был 1991 год, — и КГБ, и само государство — моя родина, СССР — прекратили существование. Я всегда это подчёркиваю: я ему верен, и останусь верен до конца.
А я как раз поступил в Московский государственный университет.
Адвокат — это человек свободной профессии. Тогда ещё слово "оппозиционер" не было ругательным, и ассоциировалось исключительно с коммунистами, никаких либералов не было. Был их аналог, "демократы", как мы их тогда называли, но они как раз находились у власти. Эти люди занимались приватизацией и всем таким прочим. И как на то государство было работать? Это было абсолютно исключено. Поэтому я пошёл в адвокатуру, чтобы позволить себе заниматься политикой.
В 1994 году я вступил в компартию, а в 1996-м получил адвокатский статус. И мне членство в КПРФ никак в работе не мешало. А если бы я работал в органах? Тогда была так называемая департизация, когда запретили военным и сотрудникам ФСБ — вообще сотрудникам спецслужб — членство в партии. Конечно, это ограничение их прав. Но это делалось, чтобы всех сочувствующих Советскому Союзу выдавливать из силовых органов. А тогда как раз силовые органы во многом сочувствовали Советскому Союзу.
Екатерина ГЛУШИК. Они были государственники.
Дмитрий АГРАНОВСКИЙ. Совершенно верно. И понимали, что делается с государством.
Сейчас, конечно, ситуация очень изменилась, особенно после начала СВО. Я всегда привожу пример Василия Ланового, которого обожаю. Когда говорили: "Василий Лановой, он теперь с властью", — я отвечал: "Нет, Василий Лановой был всегда на одном месте. Эта власть сделала огромный круг в пространстве. И в конечном итоге, может быть, вынужденно, может быть, сознательно, встала рядом с Василием Лановым".
Если раньше, в 90-е годы, она стояла с Кохом*и Чубайсом, то теперь — с Василием Лановым.
Не знаю, если бы я сейчас заканчивал университет, наверное, пошёл бы служить в ФСБ. Почему? История круг сделала, и очень многие взгляды сблизились.
Мы сейчас понимаем, что распад Советского Союза, разрушение — это трагедия. Мы утратили своё геополитическое величие, не могли защищать себя и своих союзников. Мы внушили тем, кому мы хотели понравиться — Западу, — чувство собственной слабости, и они решили, что нас вообще можно сожрать.
Советский Союз внушал им чувство силы, они нас уважали и даже в каком-то смысле извращённо любили, потому что они обожают силу, когда им показывают кулак.
У меня был старший товарищ, можно даже сказать, друг, к сожалению, недавно ушедший от нас, Анатолий Васильевич Демидов — бывший директор Электростальского завода тяжёлого машиностроения, который поставлял прокатные станы в огромное количество стран, в 130, кажется. Ему было 97 лет, но всё равно любой уход такого человека безвременен.
Он был депутатом того, расстрелянного Ельциным, Верховного Совета. Я помню его слова, они немножко иронические были. Он говорил: "Посмотри на Китай: мы же их учили, с какой стороны к машине подходить. И где они, а где мы? А ведь это мы должны быть на том месте".
Теперь, думаю, понятно, почему я в 1991 году оказался не в госорганах, а в адвокатах, в оппозиции. Хотя сейчас "всё смешалось в доме Облонских". И те, кто сейчас называет себя оппозицией (почему-то либералы себе это "звание" присвоили), считают меня злейшим врагом: я внесён во все, какие только есть, их списки: "Миротворец" и так далее…
Екатерина ГЛУШИК. Вы практикующий юрист, адвокат. А что сейчас людей особенно беспокоит?
Дмитрий АГРАНОВСКИЙ. Эту статистику мне представить сложно, потому что я, скажем так, юрист профильный. Работаю уже 30 лет, но в основном занимаюсь уголовными делами. И до недавнего времени была практика работы с Европейским судом по правам человека, потому что тема очень близкая, тоже связанная с уголовными делами.
Именно в уголовных делах не так проявлялась политизация, но вообще, наверное, любой суд в какой-то степени политизирован. В любом суде работают люди, и, конечно, в Басманном или Электростальском городском суде, или в Европейском суде по правам человека — у людей есть свои пристрастия.
Уголовное право в достаточной степени было связано с Европейским судом. То, что мы сейчас ушли из-под его юрисдикции, на мой взгляд, очень жаль, и, думаю, все адвокаты это моё сожаление разделят. Но это был не наш выбор. С сегодняшней Европой иметь дело невозможно.
Думаю, когда-нибудь потом мы помиримся. С той же Польшей, где сейчас ужасные русофобские власти — можно идеологически расходиться как угодно далеко, но физически при этом не стать дальше ни на метр. И когда-нибудь там тоже силы разума возьмут верх, и они поймут, что конфронтировать, воевать с Россией не имеет никакого смысла — ни экономического, ни идеологического — никакого. Тогда, наверное, мы помиримся… Может быть, в перспективе мы опять международные органы признаем, будем с ними дружить. Но для этого они тоже должны измениться, они не должны поучать нас.
В своё время, кстати, Европейский суд занимался этим минимально, но к Европейскому суду были этакие продажи товаров "в нагрузку": Совет Европы, Парламентская ассамблея Совета Европы, которая постоянно нам указывала, как надо жить, что делать, какие мы должны быть "демократичные". Это, конечно, неприемлемо.
Европейский суд не только нашим властям не нравился, но его, например, терпеть не могли Турция, Англия — это были чемпионы по делам, рассматриваемым в Европейском суде. Не Россия!
Но я в своё время вёл все категории дел, за 30 лет всё успеваешь попробовать.
Конечно, проблема — очень большой обвинительный перекос в нашей судебной системе. Статистика оправдательных приговоров такова: порядка 99,9% приговоров — обвинительные.
Но такого просто не может быть — не то, что с точки зрения права, а с точки зрения законов физики. Значит, вес адвоката исчезающе мал в уголовном процессе. Его, конечно, хорошо бы повысить. В этом смысле на нового председателя Верховного суда мы, адвокаты, возлагаем определённые надежды.
Ведь чем выше вес адвоката, тем более тщательно идёт судебный процесс, тем меньше процент судебных ошибок. Это означает, что у граждан представление о судебной системе как о справедливой.
А судебная система, правоохранительная система и милиция — мне больше слово нравится, хоть сейчас её полицией называют, — это как раз те органы власти, с которыми граждане соприкасаются. Вот президента мало кто лично видел вблизи, мало кто был в парламенте, мало кто лично знаком с депутатами Госдумы и прочее. А вот с милицией, с судами граждане соприкасаются ежедневно. И как раз эти органы осуществляют непосредственную власть над людьми. Поэтому требования о справедливости к ним — особенные.
В советское время стать судьёй было очень трудно. Попасть в милицию можно было только по комсомольской путёвке. Людям давали власть, в том числе и оружие. Считалось, что это должны быть совершенно особенные люди, кристально честные.
К тому же в судах были народные заседатели. Всё это повышало доверие к судебной системе.
А когда 99,9% приговоров — обвинительные и когда вес адвоката исчезающе мал, доверие к судебной системе падает. И государство здесь должно наводить порядок.
Хотя, когда судебные процессы идут безостановочно, это удобнее. И для судов, и для властей, и для следователей — для всех. Но тогда судебная система превращается в конвейер, в завод по производству приговоров. Так Аграновский-старший в своё время говорил, мне очень нравится эта ассоциация.
И в этой системе оправдательные приговоры — брак, и система стремится к минимизации брака.
Вообще устойчивый процент оправдательных приговоров — 17–20%. Это мировая статистика — статистика царской России, статистика СССР. Разные по времени и по строю страны, а статистика примерно одинаковая.
В судах присяжных сейчас, наверное, уже порядка 15% оправдательных приговоров. Я думаю, что и по обычным делам должна быть примерно такая же ситуация.
Екатерина ГЛУШИК. Сейчас иногда можно услышать, что возвращаются 90-е с их криминалом. Насколько это мнение обоснованно?
Дмитрий АГРАНОВСКИЙ. Сложный вопрос. Жизнь не стоит на месте. Преступный мир тоже на месте не стоит. Надо сказать, что во многом преступный мир (а это не только наша проблема) идёт на шаг впереди в плане технического оснащения. Я читал статистику: сейчас 85% преступлений — это разного рода кибермошенничество, преступления, совершённые через интернет.
Сейчас везде видеокамеры — это, может, и не очень хорошо, это наступление на права человека — но, с другой стороны, уличного хулиганства или открытых нападений стало меньше, по крайней мере в больших городах. Зато преступлений, связанных с кибермошенничеством и незаконным оборотом наркотиков, стало гораздо больше, и они перешли на совершенно другой уровень.
Опять же, технический прогресс шагнул вперёд. Из-за того, что началась СВО, немножко потеснили пятую колонну. То, что произносилось тогда открыто — презрение к Советскому Союзу, к России, к нашему образу жизни, вызывающее поведение — сейчас недопустимо. Но это не значит, что они так не думают. Они так думают, просто ждут более удобного момента, чтобы это опять говорить. При этом у них большие возможности, у них большие капиталы. Их сейчас подвинули, но жизнь — это борьба противоположностей. Как только наша силовая, патриотическая составляющая ослабнет — или, если говорить медицинскими терминами, как только социальный иммунитет, который сейчас начал работать, ослабнет, — все эти болезнетворные бактерии опять вылезут наверх.
Так что 90-е просто видоизменились. Если говорить о тех годах, то тогда было больше убийств и бандитизма. А сейчас гораздо больше смертей от передозировки наркотиков. Погибают молодые ребята. Причём, скажите: это смерти на войне или нет? На мой взгляд, это такие же смерти на войне против нас.
Когда человек в 17, 18 или 20 лет — а в этом возрасте он, прямо скажем, бывает глуп и инфантилен, хотя из него может вырасти замечательный член общества, — покупает прекрасно расфасованные блистеры явно промышленного изготовления, и ему никто никаких гарантий не даёт, он умирает от этого. И потом говорят: "Ах, наркоман умер". Да это не наркоман, это умер гражданин Российской Федерации! И это наша общая вина — государства и сознательных граждан. Какие-то сволочи (а это, как правило, идёт из-за рубежа и с их подачи) таким образом осуществляют геноцид нашего населения.
Каждый такой случай должен безжалостно расследоваться.
Екатерина ГЛУШИК. Государство должно показать нетерпимость к определённым преступлениям, которые грозят его существованию. Оправдана ли в таком случае смертная казнь? Люди, которые распространяют наркотики и наживаются на этом, знают, что они делают. У них осознанный выбор — убивать молодых людей.
Дмитрий АГРАНОВСКИЙ. Поскольку это не просто бизнес, а элемент войны, то этими делами должны заниматься специальные службы, отвечающие за безопасность государства. Хорошо, что ФСБ сейчас частично передала эти функции.
Я всегда был убеждённым сторонником смертной казни. Это восстановление социальной справедливости. В советское время был замечательный термин: "высшая мера социальной защиты". Когда происходят теракты, когда гибнет огромное количество людей — что ещё с преступниками делать? Они были пойманы с поличным, их виновность не вызывает сомнения. Нужна, извините за прямоту, определённая мера устрашения, потому что ничего другого они не боятся.
Я сталкивался с такого рода публикой. Они живут в параллельном мире. Некоторые настолько зомбированы, что убеждены, будто попадут в рай. Другие думают: "Посижу немножко, тут всё рухнет, и меня встретят с радостью у входа". А смертная казнь действует здесь и сейчас. Её ни в коем случае не надо распространять на широкое количество статей, потому что при нашем проценте обвинительных приговоров велик риск ошибки, а это наказание необратимое. Но посмотрите на братскую Белоруссию: там она применяется, но крайне редко, например, за взрыв в метро.
Смертная казнь доказала свою эффективность на протяжении всей истории человечества. В наше время, во время военного конфликта, она необходима. Смертная казнь должна восстанавливать у народа чувство справедливости и защищённости, а у преступников — вызывать страх.
Екатерина ГЛУШИК. Резонанс вызвало дело Ларисы Долиной — продажа квартиры, заявление о том, что это было под воздействием мошенников. Суды постановили оставить квартиру Долиной, а покупательнице предложили требовать деньги с мошенников, хотя она их и в глаза не видела. Пока не вмешался Верховный суд, всё производило странное впечатление.
Дмитрий АГРАНОВСКИЙ. Я считаю, что здесь пострадали все. Наш рынок жилья — это ярчайшее наследие "лихих 90-х", когда люди массово вылетали из квартир. Вроде всё по закону, а человека выкидывали в никуда. В советское время квартиру нельзя было просто так продать, и выкинуть тебя на площадь трёх вокзалов или в карьер было невозможно.
Наш рынок жилья застрял в хаосе. Государство должно применить меры искусственного усложнения сделок. Например, когда в сделке участвуют несовершеннолетние, органы опеки дают заключение о возможности или невозможности сделки. Этот порядок надо распространить на все сделки с жильём. Мне скажут: "Это бюрократия!" А я отвечу: "Да в этом и цель — чтобы каждую сделку "просвечивали" в специальных отделах при муниципалитетах". Если будет стоять государственный штамп контроля, нельзя будет потом просто так по суду пересмотреть всё в пользу одной стороны. Человек не должен оставаться один на один с рынком и мошенниками, которые являются элитой преступного мира.
В деле Долиной я видел такую логику суда: она совершила сделку под влиянием мошенников, и пока обратное не доказано, закон встаёт на сторону того, кто был обманут.
Суды постановили, что сделка совершена под влиянием мошенников. Был суд, эти люди получили реальные сроки лишения свободы. Значит, эта сделка по продаже квартиры была так называемой "сделкой с пороком воли". То есть она в принципе недействительна.
Когда сделка недействительна, стороны должны быть возвращены в положение, в котором они находились до неё. По идее: квартиру — Долиной, деньги — гражданке. Но там право требования переключили с Долиной как раз на этих мошенников. Если бы у них было имущество, требования покупательницы были бы удовлетворены. Но, как правило (я знаю это по уголовным делам): когда людей судят и к ним предъявляют иски, у них уже физически ничего нет.
Покупательницу переключили на мошенников — с точки зрения закона это возможно. Формально требования к ним удовлетворены. Я пытаюсь угадать логику судов: почему были приняты такие решения? Сделка недействительна, стороны должны вернуться в прежнее положение. У Долиной нет денег, чтобы вернуть их покупательнице, но квартиру ей всё равно возвращают, так как сделка незаконна. В итоге покупательница остаётся и без денег, и без квартиры. Как говорил Владимир Ильич Ленин: "По форме правильно, а по сути — издевательство".
Чтобы таких ситуаций не возникало, систему нужно менять в корне.
Дело в итоге было пересмотрено Верховным судом. Это важно, потому что Верховный суд создаёт практику. У нас судопроизводство вроде как не прецедентное (не как в Англии или Америке), то есть мы основываемся на кодексах, но есть и прецедентные элементы. Решения Верховного суда обязательны: он указывает, что правильно, а что нет.
Вопросы права — сложные. Опытные юристы могут найти на один и тот же случай два взаимоисключающих решения, и оба будут "по закону".
То, что произошло, вопиюще противоречило требованиям справедливости. А закон должен ей соответствовать.
Ещё раз подчеркну: сделки с жильём должны проходить под жёстким контролем государства. На мой взгляд, всё, что касается жилья, должно быть государственной собственностью. Эта сфера должна была быть национализирована давным-давно.
Надо вернуться к советской практике предоставления и обмена жилья. У нас северная страна, с такими вещами, как жильё, не шутят. Это вопрос жизни и смерти. Несколько подобных процессов могут создать у граждан чувство тотальной несправедливости, а кто-то попытается направить это против государства. Жильё — это не тот объект, на котором можно делать бизнес без ограничений.
При нашей цифровизации технически несложно создать контролирующий орган, который будет проверять каждую сделку и каждого покупателя "от и до". Тогда для мошенников в этой схеме не останется места.
Например, пенсионеры — самая незащищённая часть общества. Они физически не могут себя защитить, ими легче манипулировать. У старшего поколения есть презумпция доверия к государству: они привыкли, что государство их не обманывало. Мошенники на этом и играют. Нельзя бросать людей в хаос рынка. Для чего тогда вообще существует государство?
Екатерина ГЛУШИК. Недоверие рождается именно из-за отсутствия справедливости. Это недоверие может привести к самосуду.
Дмитрий АГРАНОВСКИЙ. Вспомните кинематографический успех "Ворошиловского стрелка" или более жёсткой "Окраины", или того же "Брата-2". Государство — это институт с монополией на насилие, и люди делегируют ему полномочия по защите. Если надежда на защиту падает, люди начинают защищать себя сами.
Государство должно стремиться быть справедливым в народном понимании. Сейчас, с началом СВО, этот запрос обострился. Раньше с 90-х народ государству был как бы не особо нужен, а теперь выяснилось, что без народа никуда: кому-то надо работать, воевать, рожать детей. И судебная система должна адаптироваться под народные архетипы. Большевики в своё время очень удачно "уловили" это русское представление о справедливости. Государство прочно только тогда, когда оно опирается на доверие.
Екатерина ГЛУШИК. А вам работа приносит удовлетворение, несмотря на то что она связана с негативом?
Дмитрий АГРАНОВСКИЙ. Я вспоминаю 2005 год, дело нацболов** Эдуарда Лимонова . После года в СИЗО почти всех, включая шестерых моих подзащитных, освободили в зале суда, назначив условные сроки. Это было ни с чем не сравнимое ощущение счастья от хорошо сделанной работы.
За 30 лет работы я старался помочь многим. Адвокат — это не "мебель", а участник конституционно значимого процесса. Помогая человеку добиться справедливого решения, мы помогаем всему государству стать более устойчивым.
После начала СВО коллеги шутят, что мои взгляды стали полностью совпадать с государственными. Но дело в том, что наша страна наконец "вернулась в историю". Если до 2022 года мы в целом шли вниз, то сейчас началось движение вверх. Повышается общий тонус народа, укрепляется социальный иммунитет.
Самый спокойный период был в СССР, но именно тогда мы на пустом месте этот иммунитет потеряли и остались без страны. Сейчас нам создают проблемы извне, но это помогает мобилизоваться. Жить стало интересно, потому что во всех сферах — включая правовую — появилась надежда. Всё меняется, и я верю, что мы станем сильнее.
*внесён в перечень террористов и экстремистов
**Национал-большевистская партия признана экстремистской и запрещена в РФ