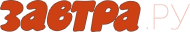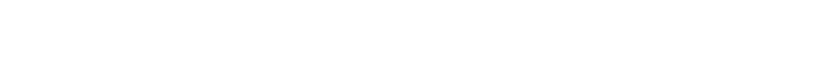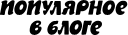Промысел, действующий абсолютно непостижимо для человеческого сознания, так, как он считает нужным, выбирает для религиозного сообщения миру неожиданных рупоров, в качестве которых, думается, даже не заметив того, выступили братья Стругацкие в повести «Пикник на обочине». Вряд ли они ставили перед собой задачу написать произведение в христианском духе, тем более представить героя, способного обрести свою религиозную эго-идентичность, но в конечном счёте это у них получилось.
Казалось бы, трудно найти людей, отстоящих от христианства далее, нежели Стругацкие и их герой. А вот поди ж ты. Уже сам пресловутый Золотой шар, о котором ведется столько разговоров и который якобы способен исполнить любое желание (якобы, потому что в повести до конца не прояснено, так это или не так) по сути является недвусмысленным псевдонимом Бога, ибо кто же, кроме Него, способен увидеть человека до самого дна его души с его пороками и с его потенциями - не таким, каким он представляется самому себе, а тем более окружающим, а таким, каким он задуман. И, в конечном счете, дать ему возможность увидеть себя так, как видит его Он и настроить на нужную волну с целью перемены. Такую возможность обретает герой повести через череду посещающих его испытаний: смерти человека –единственного, к которому он прислушивался и которого мог назвать своим другом, тюрьмы, трагедии дочери, к которой он очень привязан.
Шухарт – сложный и непредсказуемый характер, в особенности по сравнению с прежними персонажами Стругацких (психологическое выстраивание характеров, было самым уязвимым местом в их творчестве), и он едва ли единственный среди них, кто обладает потенцией к развитию. Стругацкие развивают этот характер в самом неожиданном, какое только можно представить у философствующих позитивистов, каковыми они были, направлении: в сторону духовного возрастания.
Уже в самом начале повести Шухарт озабочен поиском своей внутренней, скрытой от самого себя правды. Он смутно ощущает расхождение в себе между тем, каким он есть с тем, каким сделала его жизнь. Образ его мыслей разительно контрастирует с образом его существования. Вроде бы кроме благополучия семьи, а, следовательно, и денег на ее содержание и, может быть, лично для себя еще на выпивку, после которой возникает желание врезать кому-нибудь по физиономии, его больше ничего не должно интересовать. Но его внутренний человек сопротивляется. Интересны мысли, которые посещают Шухарта при посещении дорогого отеля, куда он пришел, чтобы сдать добычу. «Пахло дорогим табаком, парижскими духами, сверкающей натуральной кожей туго набитых бумажников, дорогими дамочками по пятьсот монет за ночь, массивными золотыми портсигарами — всей этой дешёвкой, всей этой гнусной плесенью, которая наросла на Зоне, пила от Зоны, жрала, хапала, жирела от Зоны, и на всё ей было наплевать, и в особенности ей было наплевать на то, что будет после, когда она нажрётся, нахапает всласть, и всё, что было в Зоне, окажется снаружи и осядет в мире».
Странно полное игнорирование благ этой недоступной, должной показаться ему привлекательной жизни, к которой, скорее всего и даже наверняка в числе многих других были бы не прочь приобщиться авторы повести, но которую, тем не менее, ее герой именует дешевкой и плесенью. Ещё более удивительна проекция нравов этой гостиницы на близкое будущее потребительского мира. Такой образ мышления присущ уж скорее человеку философического склада, нежели простецкому парню, сыну рабочего (впрочем, одно не исключает другое, вот ведь и мало чем отличающийся от него ближайший приятель – бывший сталкер, стал религиозным проповедником). Во всяком случае, Андрей Тарковский в своем фильме имел полное основание пойти в развитии характера сталкера до логического конца и сделать героя таковым, какой он у него в конечном счете получился: страдающим от несовершенства мира юродивым. Иной советский писатель-фантаст (да и не только советский, и не только, должно быть, фантаст) сделал бы Шухарта борцом за социальные права в марксистском духе и в том же духе озвучил бы его высказывания. Герой Стругацких приходит к иному, совсем противоположному – к упованию на чудо.
«Какое-то странное и очень новое ощущение медленно заполнило его. Он сознавал, что ощущение это на самом деле совсем не новое, что оно давно уже сидело где-то у него в печёнках, но только сейчас он о нём догадался, и всё встало на свои места. И то, что раньше казалось глупостью, сумасшедшим бредом выжившего из ума старика, обернулось теперь единственной надеждой, единственным смыслом жизни, потому что только сейчас он понял: единственное на всём свете, что у него ещё осталось, единственное, ради чего он жил последние месяцы, была надежда на чудо. Он, дурак, болван, отталкивал эту надежду, затаптывал её, издевался над нею, пропивал её, потому что он так привык, потому что никогда в жизни, с самого детства, он не рассчитывал ни на кого, кроме себя, и потому что с самого детства этот расчёт на себя выражался у него в количестве зелёненьких, которые ему удавалось вырвать, выдрать, выгрызть из окружающего его равнодушного хаоса. Так было всегда, и так было бы и дальше, если бы он в конце концов не оказался в такой яме, из которой его не вызволят никакие зелёненькие, в которой рассчитывать на себя совершенно бессмысленно. А сейчас эта надежда уже не надежда, а уверенность в чуде заполнила его до самой макушки, и он уже удивлялся, как мог раньше жить в таком беспросветном, безысходном мраке…»
Шухарт мысленно перебирает несколько вариантов освобождения от этого мрака – и ни на одном не останавливается. В результате он вообще отказывается от какого-то бы то ни было осмысления происходящего и предается на милость Высшей Силе, которой изначально не способны довериться «прогрессивно мыслящие» интеллигентные умники вроде Константина Паустовского, в свое время возжелавшего внести свои пять копеек в недоступную его сознанию область.
«Это был мир бесплодной выдумки для усталых людей. Они не видели иного выхода и потому с такой фанатической яростью верили вопреки здравому смыслу, вопреки всему опыту своей жизни, что справедливость воплощена в образе в образе Бога. Но почему-то этот Бог, придуманный людьми, чтобы разобраться в кровавой и тяжелой путанице человеческого существования, все молчал и никак не вмешивался в течение жизни.
А ему все-таки верили, хотя бездействие этого Бога длилось веками. Жажда счастья была так велика, что поэзию счастья люди старались перенести на религию, в торжественные заклинания».
По саркастическому, но верному высказыванию одного из персонажей повести, лауреата Пулитцеровской премии, откровенно глумящегося над любознательным собеседником, предлагающим однообразные научные версии в духе Паустовского по поводу того, что принципиально не может быть объяснимо, у человека «есть потребность понять, а для этого знаний не надо. Гипотеза о Боге, например, даёт ни с чем не сравнимую возможность абсолютно всё понять, абсолютно ничего не узнавая…» И Стругацкие дают такую возможность необразованному и циничному сталкеру, который после мгновенного озарения «уже больше не пытался думать. Он только твердил про себя с отчаянием, как молитву: «Я животное, ты же видишь, я животное. У меня нет слов, меня не научили словам, я не умею думать, эти гады не дали мне научиться думать. Но если ты на самом деле такой… всемогущий, всесильный, всепонимающий… разберись! Загляни в мою душу, я знаю, там есть всё, что тебе надо. Должно быть. Душу-то ведь я никогда и никому не продавал! Она моя, человеческая! Вытяни из меня сам, чего же я хочу, — ведь не может же быть, чтобы я хотел плохого!.. Будь оно всё проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме этих слов: «СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЁТ ОБИЖЕННЫЙ!»
Если отрешиться от повести и читать этот фрагмент в не зависимости от ее контекста, то его вполне можно воспринять не как просьбу к Золотому шару, который сам по себе представляет всего лишь предметный объект, пускай и вроде со стоящим за ним внеземным разумом, а как молитву к Богу –Единственному, кто способен простить человека, который всего несколько минут назад стал повинным в смерти юноши, пожелавшему просить у золотого шара ни больше ни меньше как счастья всему человечеству - и тем самым уподобился Стервятнику, самому отвратительному типу, которого он когда либо знал и которого, тем не менее, некогда спас от гибели, руководствуясь, что лично для него важно, не личными, но некими непонятными и неожиданными для него внушениями изнутри.
Эта финальная молитва сталкера, за исключением последней фразы, которая, вообще-то, заключает в себе квинтэссенцию христианского учения и отсылает к Слову на Пасху Иоанна Златоуста, удивительным образом напоминает ежедневную молитву другого святителя, русского - Филарета Московского (Дроздова), имеющуюся в почти любом православном молитвослове:
Господи! Не знаю, чего просить у Тебя! Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, даждь рабу Твоему, чего сам я и просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстою пред Тобою. Сердце мое Тебе отверсто. Ты зришь нужды, которых я не знаю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей! Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись! Аминь.
Эта молитва, в свою очередь, является переведенным, отредактированным и, очевидно, приспособленным для личных молитвенных нужд святителя фрагментом одной из книг французского архиепископа Камбрийского Франсуа Фенелона, который в начале девятнадцатого века в России был очень популярным автором, его духовными сочинениями зачитывались многие видные русские богословы. Очевидно, что с творчеством Фенелона был хорошо знаком и святитель Филарет и весьма вероятно, что впоследствии при разборе его архива эту молитва сочли за его собственное сочинение и перенесли ее в православные молитвословы.
Филарет Московский, как и вселенский учитель Православия Иоанн Златоуст, был одним из самых значительных столпов православия. Католический же архиепископ в своих богословских взглядах склонялся к учению квиетизма (от латинского quies — «отдых, покой»), хотя и дистанцировался от его крайних положений. Он полагал, что человек не должен желать ничего своего, а только того, чего хочет Бог, считал, что всякое раздумье человека над своим поступком уже корыстно. Идеал для христианина, с его точки зрения, — забыть самого себя, стать простым проводником воли Божией, раствориться в Божественной Личности. Что, собственно, пробует сделать в финале повести Стругацких их герой. А герой фильма Тарковского, снятого по мотивам этой повести – тот вообще растворен в ней с самого начала.
Такого растворения Православие не предполагает. И Фенелон, которого в свое время подозревали в ереси даже его собратья-католики, тоже в полной мере на нём не настаивал. Но атеистов Стругацких с их довольно абстрактной постановкой вопросов, поднятых в повести, эти тонкости, пожалуй, не интересовали. Они, скорее всего, не имели о них ни малейшего представления, так как занимались осмыслением вещей, хотя вплотную и стыкующихся с христианской апологетикой, но для них самих с ней если и связанных, то лишь опосредованно – отсюда гипотеза о Боге как одна из возможностей все понять, ничего не узнавая. Да и осуществляли они свою задачу в рамках раннее наработанных, привычных для них понятий и приемов – при том, повторюсь, что выход за эти рамки всё-таки произошёл, и возникновение молитвы у сталкера, идентичной молитвам двух святителей – католического и православного в финале их повести, ничем другим, кроме каких-то промыслительных, непонятных для нас и для чего-то предназначенных замыслов (не обращения же, в самом деле, Стругацких в христианство, хотя – почему бы и нет: может, посредством прозревшего сталкера братья и обретали такой шанс, но только ни один из них им не воспользовался) не объяснишь. Кроме, разве что, наличием чуда, на которое уповал их герой.